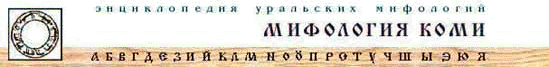
при поддержке компании
ТелеРосс-Коми
| карты |
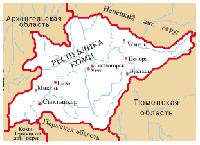 Республика Коми |
| регионы |
| публикации |
Публикации :: История полевых исследований
Исследования В.Н. Белицер по народам коми
Вера Николаевна Белицер (1903-1983 гг.), известный специалист по этнографии народов Поволжья и Приуралья, старейший сотрудник Института этнографии АН СССР, внесла существенный вклад в изучение финно-угорских народов этого региона.
В 1943 году Вера Николаевна поступила в аспирантуру созданного в этом же году в Москве Института этнографии АН СССР. Она пришла в Институт будучи уже опытным полевым исследователем, специалистом по музейно-экспедиционной методике. С 1925 года, после окончания этнолого-лингвистического отделения факультета общественных наук МГУ Вера Николаевна работала в находившемся в то время в Москве Музее народоведения (позже - <Музей народов СССР>). Здесь она проработала до 1941 года, почти ежегодно выезжая в экспедиции по изучению культуры и быта народов Поволжья и Приуралья.
Во время учебы в аспирантуре Вера Николаевна подготовила и успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему <Народная одежда удмуртов. Материалы к этногенезу>, которая до этого не рассматривалась специально в этнографической литературе об удмуртах. В 1951 году эта работа была опубликована отдельной книгой.
После защиты кандидатской диссертации Вера Николаевна продолжила исследования народов Поволжья и Приуралья.
В 1945 году широко развернулись экспедиционные работы Института этнографии АН СССР, значительно сократившиеся в годы войны. Они проводились в разных районах страны, в том числе и в Коми АССР. Работы в Коми АССР проводились по инициативе Правительства и научных учреждений Республики. Этнографическое изучение коми было частью большой комплексной работы, которая проводилась совместно несколькими Институтами - Истории, Этнографии, Истории материальной культуры, Научной базы АН Коми АССР Целью экспедиции было изучение материальной культуры, общественных отношений и религии коми. Она была рассчитана на несколько лет. Комплексную археолого-этнографическую экспедицию приняла и В.Н. Белицер. Осенью 1945 года этнографический отряд под ее руководством в течение двух месяцев работал на территории двух районов Коми АССР - в Сысольском, южном, сельскохозяйственном районе, и в более северном, Железнодорожном, где население наряду с земледелием занималось лесоразработками, охотой и рыболовством.
Во время экспедиции изучались особенности основного занятия населения этих районов - земледелия, а также охоты, рыболовства, гончарства и ткачества. Исcледовались и типы поселений, жилище, хозяйственные постройки, национальная одежда, головные уборы, обувь. Удалось собрать материал и по родовым пережиткам, религиозным представлениям, погребальным обрядам. Были записаны также поверья, приметы и обряды, связанные с постройкой дома, охотничьими и рыболовными промыслами, а также песни, плачи, большое количество пословиц и загадок. При этом было отмечено, что в Сысольском районе широко распространены русские песни, которые попадали сюда из Сибири, куда уходили на заработки местные мужчины.
Итоги работы этой экспедиции были подведены в статье В.Н. Белицер <Работа этнографического отряда комплексной экспедиции в Коми АССР>1. В ней отмечалось, что земледелие коми в целом по своему характеру близко к земледелию северных великоруссов. Во время работы экспедиции здесь в основном практиковался многопольный севооборот, однако кое-где сохранялось еще трехполье, были живы и воспоминания о подсеке. Использовались еще некоторые традиционные сельскохозяйственные орудия (цеп, коса-горбуша, деревянная вязаная борона и др.). Сохранялись и охотничий инвентарь и одежда, а на старых лесных тропах - лесные избушки и традиционные амбары. Охотой и рыболовством занимались мужчины. Гончарство было женским занятием, при этом женщины лепили посуду без гончарного круга, способом налепа. Домашнее ткачество в исследуемых районах не сохранило национальных особенностей, а терминология орудий труда была, в основном, русской. Примитивное тканье без ткацкого стана применялось в изготовлении поясов при помощи бердечка. Женский костюмный комплекс сохранял в то время национальный колорит, а в мужской одежде были лишь отдельные национальные элементы - головные уборы, обувь, безрукавка.
Работы экспедиции 1945 года стали первым шагом в деле более глубокого изучения культуры коми и вопросов происхождения этого народа, а также его культурных связей с другими народами.
В марте 1946 года Комплексная экспедиция, организованная Институтом этнографии АН СССР и Базой АН Коми АССР, продолжила работы, начатые в 1945 году. Под общим руководством Н.Н. Чебоксарова работали два отряда - антропологический и этнографический. Этнографический отряд работал с 13 марта по 14 апреля в Усть-Куломском районе Коми АССР, расположенном в юго-восточной части республики.
Основное население района - коми, были выходцами из разных мест, неоднородными в диалектном отношении. Жили здесь и русские переселенцы 1930-х годов и более раннего времени, которые уже ассимилировались с коми. Основным занятием населения Усть-Куломского района было земледелие и огородничество. Существенное значение в хозяйстве сохраняли охота и рыболовство. Экспедицией изучались способы и орудия ловли рыбы, а также блюда, приготовленные из нее. Рыба была существенным подспорьем в питании местного населения, а рыбный пирог <черинянь> являлся ритульным блюдом на свадьбах, а также при постройке нового дома. Щучьи зубы использовали как амулет.
Было отмечено, что охота имеет неравноценное значение в хозяйстве населения различных частей Усть-Куломского района: в его северной части она сохраняла полупромысловый характер, а в южной лишь немногие жители занимались ею как любители. Охотники пользовались традиционным охотничьим инвентарем, имели одну-две охотничьи избушки. Из промыслового зверя особое место занимал медведь; его когти сохраняли как амулет и носили у пояса, а зубы использовали как лекарство - их сжигали и золой посыпали больное место.
Экспедицией были изучены и такие домашние производства, как изготовление деревянной и глиняной посуды, первичная обработка льна, изготовление тканых поясов при помощи бердечка. Изучение орудий прядения и тканья показало, что они не имеют архаических черт и каких-либо местных особенностей.
Были зафиксированы некоторые особенности местного похоронного обряда - использование для похорон сосновых колод <чурок>и саней в любое время года, выкуп места на кладбище2.
Во время экспедиций 1945 и 1946 годов в Коми АССР, а также 1947 и 1948 годов в Коми-Пермяцком национальном округе (Юсьвинский, Кочевский, Гаинский районы) и в группе язьвинских коми-пермяков, живущих в Красновишерском районе Молотовской (ныне Пермской) области В.Н. Белицер собрала большой материал по народному изобразительному искусству этих народов, которое до этого было слабо изучено. Он был обобщен исследовательницей в статье <Народное изобразительное искусство коми>3. Изучив узорное ткачество коми-зырян и коми-пермяков, Вера Николаевна пришла к выводу, что оно по расцветке, технике, отдельным элементам орнамента, композиции близко к русскому узорному ткачеству. Она полагала, что о длительности существования этих узоров на территории Восточной Европы свидетельствуют аналогии с узорным ткачеством не только русских, но и белорусов, мордвы, удмуртов. Техника изготовления холста у народов коми, как установила В.Н. Белицер, близка к технике соседнего русского населения Вологодской, Кировской и Молотовской (ныне Пермской) областей. В статье рассматривается и техника изготовления поясов - на обычном ткацком стане, при помощи бердечка, на ниту (на бичульках). Автор отмечает, что в способах тканья поясов у коми сохраняются народные традиции. Плетение поясов на бердышке и на ниту или бичульках было широко распространено не только среди коми, но и среди русских, белорусов, мордвы, удмуртов и народов Прибалтики.
В статье уделено внимание и таким сторонам народного искусства коми, как вышивка, набойка, вязаные изделия, а также архитектурные украшения построек. При этом В.Н. Белицер пишет, что вышивка у коми в отличие от соседних народов - мордвы, марийцев, удмуртов распространена довольно слабо. Вместе с тем у коми - пермяков на старинных женских головных уборах - шамшурах встречается оригинальная, самобытная, не имеющая аналогий в вышивке окружающего населения, вышивка, замененная позднее полосками парчи. Вышивкой был украшен и женский головной убор типа сороки - <юр кортод> (головная повязка), который был распространен в юго-западной части Коми АССР на реках Лузе и Сысоле. Эти факты дали основание автору предположить, что в прошлом вышивка имела у народов коми более широкое распространение. Это свидетельствует, по мнению В.Н. Белицер, об их общем культурном пласте с народами Волго-Камья.
В XIX веке, отмечает автор, у коми-зырян и коми-пермяков было широко распространено изготовление кустарной набойки, которая по рисунку и расцветке напоминает набойку русского населения Севера. В коми-пермяцкой набойке Вера Николаевна выявила и местные характерные особенности, в частности, использование в одной набойке нескольких досок с разными узорами. Среди узоров, используемых в коми-пермяцкой набойке, автор выделила две группы: несложный геометрический орнамент из солярных мотивов и более сложные формы растительного орнамента, иногда с изображением птиц. Появление птиц в коми-пермяцкой набойке она объясняет тесными культурными связями между коми и русскими: изображение птиц, сидящих на ветках или по бокам деревьев, часто встречающееся в коми-пермяцкой набойке, характерно для вышивки русских и народов Поволжья.
Значительное место в статье уделено узорному вязанию народов коми . Это богато орнаментированные чулки, перчатки, варежки, кушаки и шарфы, характерные для северных районов Коми-Пермяцкого национального округа и Коми АССР. Вера Николаевна отмечала, что узоры вязаных изделий отличаются определенной устойчивостью и нередко повторяются в разных, порой отдаленных районах. Тем не менее она выявила некоторые локальные особенности узоров вязаных изделий, а также установила, что чулочный орнамент восточных районов Коми АССР имеет параллели с ленточным орнаментом обских угров. Изучение терминологии узоров показало ее устойчивость в разных районах. По мнению автора, она редко объясняет семантику, но дает осмысление некоторым узорам.
В статье отмечается, что постройки коми-зырян и коми-пермяков не богаты архитектурными украшениями. Не имеет широкого распространения резьба на карнизах и наличниках дома. Однако во многих деревнях Коми АССР и Коми-Пермяцкого национального округа на старых крестьянских постройках встречались охлупни, концы которых были обработаны в виде причудливой головы животного, чаще коня или фантастической птицы. В.Н. Белицер считает, что изображение конской головы на охлупнях связаны с культом коня, который имел широкое распространение у коми и многих народов Евразии.
В искусстве коми нашло отражение и почитание водоплавающей птицы - исследовательница пишет, что изображение птицы в виде больших деревянных чашек и на ручках деревянных ковшей часто встречалось во время работы экспедиции в Коми АССР и Коми-Пермяцком национальном округе. Почти в каждой семье можно было встретить деревянную солонку в форме утки. Ее вырезал хозяин дома <на память о себе>.Утка в прошлом была жертвенной птицей. Фигурки уток в качестве подвесок часто встречаются в древностях пермской чуди. Все это свидетельствует, по мнению автора, об устойчивых местных традициях в искусстве коми и об общем древнем культурном пласте для всей территории Прикамья и восточных склонов Урала.
Перечислив разнообразные изделия из бересты - посуду, кошели, обувь, туеса и др., Вера Николаевна пишет, что только народы, прожившие продолжительное время в лесной таежной зоне, могут так широко и искусно пользоваться этим материалом.
В результате изучения народного изобразительного искусства народов коми В.Н. Белицер пришла к выводу о том, что оно развивалось во взаимодействии с русским народным искусством, сохраняя при этом свои национальные формы.
С 20 июля по 5 октября 1950 года этнографическая экспедиция под руководством В.Н .Белицер работала в северных районах Коми АССР - Троицко-Печорском, Кожвинском, Усинском и Ижемском, расположенных по течению рек Печоры, Усы и Ижмы.
Основными задачами этого исследования были изучение путей заселения Печоры и формирования культуры печорских коми, а также современного быта и культуры населения этих районов. Собранные экспедицией материалы позволили в целом осветить основные черты культуры печорских коми и сделать предварительные выводы. Они были подведены В.Н. Белицер в двух публикациях: <О формировании культуры верхнепечорских и нижнепечорских коми> и <Этнографические работы на Печоре>4. Материалы экспедиции показали, что население обследованных районов отчетливо делится на две группы: верхнепечорских и нижнепечорских - коми ижемцев, различных по происхождению, особенностям культуры и диалектов языка. Поселения верхнепечорских коми расположены в Троицко-Печорском и в южной части Кожвинского района. В дореволюционное время они были известны под названием <зыряне>. Нижнепечорские коми, известные под названием <ижемцы>, в основной массе живут на территории Ижемского, Ухтинского, Усинского и большей части Кожвинского районов. Различны пути формирования этих групп; между ними прослеживаются и антропологические различия. Первые поселенцы на Верхней Печоре, отмечает В.Н. Белицер, появились во 2-й половине XVII в; эти районы заселялись, в основном, старообрядцами. Возможно, считает она, сюда переселялись и с Сысолы и других районов, в частности, с Верхней Вычегды.
Этнографические материалы, собранные в Троице-Печорском районе, позволили выявить и особенности их культуры. Местный, наиболее древний пласт, характерный для всех групп коми, на Верхней Печоре более полно прослеживается в охотничье-рыболовном хозяйстве, а также в промысловом костюме и во временных постройках. Экспедицией были изучены предметы охотничьего снаряжения, охотничий костюм и обувь, сохранившие специфические, наиболее древние черты национальной одежды, а также постройки, связанные с охотничьим бытом (типичная для всех коми лесная избушка, амбар-кладовая, постройки на рыбном промысле и др.). Анализ других элементов материальной культуры верхнепечорских коми показал их близость к культуре соседних верхневычегодских коми. Сельскохозяйственные орудия на Печоре - соха, борона, серп, цеп, коса-горбуша - были такими же, как на Вычегде. Постройки Троицко-Печорского района также были сходны с постройками Верхней Вычегды.
Хотя старинный костюм на Верхней Печоре к середине XX в. не сохранился, удалось установить его близость к верхневычегодскому.
Культурная близость населения Верхней Вычегды и Верхней Печоры прослеживалась и в распространении в этих районах одних и тех же музыкальных инструментов.
Процесс формирования верхнепечорских коми, по мнению В.Н. Белицер, шел иначе; он происходил в бассейне Ижмы в XVI веке. Она выделяет в культуре ижемцев три пласта: местный, условно названный охотничье-таежным, земледельческий, тесно связанный с земледельческой культурой русских Европейского Севера, и более поздний, связанный у ижемцев с развитием оленеводства и культурой ненцев.
Вера Николаевна отмечает, что местный, наиболее древний пласт в ижемской культуре значительно слабее, чем у верхнепечорских коми. Значительно сильнее здесь ощущаются связи с русской культурой. На связь с Мезенью и русскими поморами указывает, как считает она, использование аналогичных сельскохозяйственных орудий, сходство в жилище и костюме. Это дало ей основание сделать вывод о том, что именно оттуда шел колонизационный поток на Ижму.
Тесная связь с севернорусской культурой прослеживается и в обычаях и фольклоре ижемцев. На Ижме и Нижней Печоре издавна были распространены смешанные браки русских и коми. Поэтому В.Н. Белицер предполагает, что в состав ижемцев вошло и русское население Архангельской области, в частности, с Печоры.
Оленеводческий пласт культуры - оленеводческое хозяйство, одежда из оленьего меха, обувь и др. - вошел в культуру ижемцев позднее.
Экспедицией изучались не только традиционные формы народной культуры, но и современное хозяйство, жилище, одежда и др. При этом было установлено, что в советское время происходит стирание локальных особенностей в культуре верхнепечорских и нижнепечорских коми, теряют свое различие диалекты, реже употребляется самоназвание нижнепечорской группы.
Происходили изменения и в хозяйстве, в охотничьем и рыболовном промыслах; земледелие продвигалось на север, развивалось огородничество, животноводство. Оленеводство проникало в более южные районы, в частности, в верховья Печоры.
В 1951 году экспедиция под руководством В.Н. Белицер работала среди зюздинских коми-пермяков, проживающих в Зюздинском районе Кировской области, изученных до того в этнографическом отношении весьма слабо; не были исследованы процессы заселения верхней Камы, проблема этногенеза этой группы, ее этническая специфика. Результаты этой поездки были опубликованы В.Н. Белицер в статье <У зюздинских коми-пермяков>5.
Она отметила, что самосознание в группе зюздинских коми-пермяков <выражено не вполне отчетливо>: некоторые затрудняются определить свою национальность и считают себя кто русским, кто коми. В большинстве же случаев зюздинцы называют себя пермяками, но отличают себя от коми-пермяков, живущих в Коми-Пермяцком национальном округе. Зюздинский диалект коми-пермяцкого языка имеет ряд особенностей, в его словаре много русских слов, есть слова из коми-зырянского языка. Кроме родного коми-пермяки Зюздинского района в равной мере владеют русским языком.
Опираясь на данные археологических раскопок, местные предания, а также особенности диалекта и наличие одних и тех же фамилий, Вера Николаевна пришла к выводу об однородности населения в Зюздинском и Гайнском районах.
Экспедиция изучала хозяйственные занятия зюздинских коми-пермяков в прошлом и в 1950-е годы, а также средства передвижения, поселения, жилище, хозяйственные постройки. Эти материалы показали, что традиции в возведении и расположении жилища и хозяйственных построек у коми-пермяков Зюздинского района являются характерными для всех коми-пермяков.
В 1950-е годы у зюздинских коми-пермяков бытовало еще ручное прядение и ткачество, а пожилые женщины занимались изготовлением глиняной посуды техникой налепа. Хотя к этому времени традиционная одежда у зюздинских коми-пермяков почти не сохранилась, удалось установить, что старинный комплекс их одежды близок к национальному костюму коми-пермяков бассейна реки Иньвы.
В результате изучения особенностей материальной культуры зюздинских коми-пермяков В.Н. Белицер пришла к выводу о том, что она близка в некоторых отношениях к культуре населения Коми-Пермяцкого национального округа, а в других - к культуре более южной, иньвенской группы коми-пермяков. В культуре зюздинцев есть и черты, общие с культурой северных групп коми-пермяков. При этом в северной части проживания зюздинцев преобладают черты культуры северных групп коми-пермяцкого населения, а в южных - иньвенских коми-пермяков. Заметна и близость культуры зюздинских коми-пермяков к культуре русских Кировской области. Автор объясняет это тем, что русские и коми-пермяки в течение столетий живут на одной территории, в одинаковых природных условиях, вступают в национально-смешанные браки.
По мнению В.Н. Белицер, первые поселенцы Зюздинского края, вероятнее всего, были выходцами из соседних районов бассейнов рек Иньвы и Кувы и из районов Чердыни, Косы и Гайн.
Летом 1952 года экспедиция под руководством В.Н. Белицер продолжила работы
в Удорском районе Коми АССР, расположенном в северо-западной части республики,
в верховьях рек Мезени и Вашки. В то время отдельные деревни, удаленные от
районного центра - села Кослан на значительные расстояния - в 150-200 км.,
были слабо связаны между собой. Осенью и весной во многие из них можно было
добраться только верхом.
Этот район был мало изучен в археологическом и этнографическом отношениях.
В задачи экспедиции входил сбор материалов по культуре и быту удорских коми.
Коми составляли основную часть населения Удорского района, но в низовьях рек Вашки и Мезени жили и русские. Соседство с русским населением, хозяйственно-экономические связи двух народов наложили отпечаток на материальную и духовную культуру коми; это нашло отражение и в их языке.
Экспедицией изучались и изменения в хозяйстве удорских коми. В прошлом их основным и занятиями были охота и рыболовство. Была собрана богатая и детализированная терминология, относящаяся к охоте, свидетельствующая о древности этого занятия в этих местах. Охота и в 1950-е годы частично сохраняла промысловый характер; бытовал еще охотничий костюм, использовались традиционные способы охоты.
Рыболовством у удорских коми занимались не только мужчины, но и женщины, в основном, для собственного потребления.
Экспедиционные материалы показали, что хотя земледелие на Удоре в прошлом было распространено ограниченно, оно имело древнее местное происхождение. Еще в начале XX века здесь местами сохранялось подсечное земледелие. Длительное время земледелием занимались, в основном, женщины, т.к. мужчины охотились или уходили на лесоразработки.
В 1950-е годы, когда здесь работала экспедиция, основная масса населения Удорского района занималась земледелием и скотоводством; развивалось огородничество, которое ранее здесь не было известно, а также птицеводство и свиноводство. В некоторых колхозах были небольшие стада оленей. Значительная часть населения была занята на рубке, вывозке и сплаве леса, т.к. Удорский район был почти сплошь занят лесом.
Были изучены типы поселений, их планировка, жилище, хозяйственные постройки. Жилые постройки Удорского района в основе были того же типа, что и постройки других районов республики, хотя имели и некоторые отличительные черты.
Экспедицией изучались и народный костюм, головные уборы , прически девушек и женщин. Мужской костюм на Удоре не отличался от мужского костюма коми других районов. В селениях по нижнему течению Вашки и Мезени была распространена одежда из оленьего меха. Комплекс женского народного костюма и его отдельные детали в целом близки к костюму русских, некоторые отличия от него прослеживались лишь в деталях покроя, отделке и терминологии.
Во время работы экспедиции было уделено большое внимание сбору материалов по семейному быту: была собрана полная терминология родства, записаны свадебные обряды, сохранявшие отдельные традиционные черты, изучались похоронные обряды, в которых традиция сохранялась наиболее устойчиво.
Экспедицией были зафиксированы и культурные сдвиги в жизни населения Удорского района - строительство школ, домов культуры, библиотек, развитие художественной самодеятельности, рост кадров интеллигенции.
Собранный во время этой экспедиции материал выявил много общего в материальной и духовной культуре коми Удорского района с культурой русских, в частности русского населения Архангельской области, районов Онеги, Северной Двины, Мезени. При этом В.Н. Белицер выделяет ранние и поздние заимствования у русских, первые из которых органически вошли в культуру коми6.
Таким образом, экспедиционные работы под руководством В.Н. Белицер проводились во многих районах Коми АССР и Коми-Пермяцкого национального округа. При выборе районов исследования учитывались такие характеристики, как географическое положение, природные условия, а также хозяйственная деятельность населения, история заселения и др. Это давало возможность выявить общие с другими районами и специфические черты материальной и духовной культуры в изучаемом районе и в результате представить культуру народов коми во всем ее многообразии.
Как отмечалось выше, результаты экспедиционных поездок Вера Николаевна обобщала в статьях, которые регулярно публиковались в изданиях Института этнографии.
О подходе В.Н. Белицер к изучению народной культуры можно судить по ее статье <Методические указания к полевому сбору материалов по народной одежде>7. В ней уделяется большое внимание вопросам подготовки исследователя к выезду в поле. Это знакомство с литературой по хозяйству и истории изучаемого района или народа, с общими работами по одежде и специальной литературы по более узкой теме. Вера Николаевна писала, что до выезда в поле необходимо знать, что уже сделано по изучаемой теме; нужно также изучить фонды местных музеев .Методы изучения народной одежды, считала она, зависят от той цели, которую ставит перед собой исследователь. При углубленном изучении комплекса культурных явлений на ограниченной территории применим стационарный метод, а при тематическом исследовании - маршрутный. При изучении народной одежды широко и успешно используется и комбинированный метод, при котором основной материал по изучаемой теме собирается путем стационарного исследования, а сравнительный - маршрутным. В статье В.Н. Белицер отмечала также, что правильное освещение народная одежда получает только тогда, когда оно дополняется сведениями о других сторонах народной культуры. Изучение народной одежды не должно быть в отрыве от истории народа, формирования его культуры. Только так можно проследить происхождение отдельных форм одежды и их развитие. В то же время материалы по народной одежде, считала исследовательница, могут быть использованы для решения различных исторических проблем: происхождения народа, его культурно-исторических связей и др.
Многие общие методические рекомендации В.Н. Белицер по сбору материалов по народной одежде, содержащиеся в этой статье, полезны и при исследовании других элементов народной культуры.
Собранные во время экспедиционных поездок в самые отдаленные районы расселения коми-зырян и коми-пермяков обширные уникальные материалы послужили основным источником при создании капитальной монографии В.Н. Белицер <Очерки по этнографии народов коми. XIX -начало XX в.>, опубликованной в 1958 году и успешно защищенной ее автором в качестве докторской диссертации в 1959 году. Это историко-этнографическое исследование, в котором автор стремился к изучению отдельных сторон жизни двух близко родственных народов в их историческом развитии; в каждом разделе основному материалу, относящемуся к XIX - нач. XX вв., предшествует экскурс в более ранние эпохи, вплоть до глубокой древности. А в заключении работы дан обзор их состояния на 1950-е годы. Это позволило сделать обращение автора к изучению этнографических коллекций и работа над рукописными материалами местных краеведческих и центральных музеев, а также литературой по истории, археологии и этнографии народов коми, архивными данными.
При работе над монографией В.Н. Белицер использовала материалы Республиканского краеведческого музея в г. Сыктывкаре, окружного краеведческого музея им. Н.И. Субботина-Пермяка в г. Кудымкаре, а также фонды Музея этнографии народов СССР и архивы Всесоюзного географического общества и АН СССР.
В книге даны общие исторические сведения о народах коми, показаны их численность и расселение, дана характеристика языка и этнографических групп. В.Н. Белицер отмечает, что коми-зыряне и коми-пермяки близки по культуре и языку, а также по происхождению. Она рассматривает и историю заселения территории расселения коми, смену культур, прослеживает связи древних культур Прикамья с населением причерноморских степей и племенами северо-востока Европы, в том числе и со славянами, которые особенно усиливаются в XII веке.
В главе <Общие исторические сведения о народах коми> В.Н. Белицер, опираясь на данные археологии и истории, рассматривает процесс формирования коми-зырян и коми-пермяков. Она пишет, что в начале второго тысячелетия н.э. в бассейне Верхней Камы и Средней Вычегды сложились две племенные группировки: одна - северо-западная, расселенная на Нижней Вычегде, верхней Мезени, а также в верховьях Вашки и Выми, на территории, известной в русских источниках под названием Перми Вычегодской, а вторая - в бассейне Верхней Камы и ее притоков, известная как Пермь Великая или Чусовая. В книге показаны этапы освоения этих земель новгородцами, а позднее московскими князьями.
Большое место уделяет автор хозяйственным занятиям народов коми. Проследив по архелогическим материалам историю развития у них земледелия со времени его возникновения, В.Н. Белицер пришла к выводу о том, что коми-зыряне и коми-пермяки имели такой же тип хозяйства, что и их ближайшие соседи- русские северных районов.
Такое сходство она объясняет тем, что эти народы находились примерно на одинаковой ступени хозяйственного и общественного развития и жили в близких природных и климатических условиях. В то же время, считает автор, не исключены и взаимные заимствования, многие из которых в адаптированном виде становились неотъемлемой частью культуры народа.
В книге прослеживаются и те изменения, которые произошли в сельском хозяйстве края в первой половине XX века - продвижение земледелия на север, изменение состава возделываемых культур; рассмотрены различия типов хозяйства на территории Коми АССР в зависимости от особенностей природных условий.
В Коми-Пермяцком национальном округе автор выделяет три крупных района, различающихся по основным хозяйственным занятиям: южный, где сельское хозяйство имеет очень большое значение, центральный, где основные занятия населения - сельское хозяйство и лесной промысел, и северный - лесопромышленный и сельскохозяйственный.
Животноводство народов коми, пишет В.Н. Белицер, близко к скотоводству северной лесной зоны: русских, карел, вепсов.
В книге уделяется внимание и развитию оленеводства, которым занимались, в основном, в трех северных районах Коми АССР: Ижемском, Кожвинском и Усть-Усинском.
В ней показана и роль охоты в различные периоды жизни народов коми. Описана организация промысловых угодий, охотничьих изб. Своеобразным явлением в культуре этих народов было семейно-наследственное владение охотничьими угодьями. Описаны разнообразные способы ловли зверей и птиц, в которых отразились древние традиции и навыки жителей таежной лесной полосы. Большое внимание уделено также описанию охотничьего костюма, снаряжения и быта охотников. Охота сохраняла свое промысловое значение и в 1950-е годы, особенно в северных районах.
Как свидетельствуют археологические материалы, с древних времен на территории расселения народов коми было развито рыболовство. В.Н. Белицер, рассмотрев разнообразные приемы и орудия рыбной ловли, распространенные у коми, пришла к выводу, что большинство из них бытует на очень широкой территории севера Европы и Азии, в таежной полосе. Рыболовство занимало значительное место в хозяйстве народов коми и в 1950-е годы.
В книге охарактеризованы и неземледельческие занятия, ремесла и промыслы (прядение и ткачество, сетевязание, гончарство и др.), которые служили подспорьем к сельскому хозяйству. При этом автор отмечает, что процесс первичной обработки льна и конопли, а также орудия прядения и ткачества у коми-зырян и коми-пермяков были близки к русским. А изготовление тканых поясов различными способами - на руках, при помощи дощечек и др. было широко распространено у восточных славян и народов Прибалтики, а также в древних культурах Западной и Северной Европы.
Из глубокой древности до 1950-х годов у народов коми сохранялась техника изготовления глиняной посуды без гончарного круга, способом налепа.
С начала ХХ века у народов коми развиваются такие промыслы, как заготовка и сплав строевого леса. Многие работали на уральских заводах, становясь кадровыми рабочими.
Рассмотрев средства передвижения и пути сообщения, известные у народов коми, В.Н. Белицер отметила, что сухопутные средства передвижения в прошлом играли у них меньшую роль, чем водные. Она полагает, что передвижение на колесах, вероятно, не было распространено у коми до знакомства с русскими. Об этом свидетельствует, по ее мнению то, что все колесные средства передвижения имеют русские названия и стали использоваться этими народами сравнительно недавно.
В монографии В.Н. Белицер уделяет достаточно много внимания и описанию поселений, характеру их планировки, типу расселения. Она пишет, что тип заселения того или иного народа определяется природными условиями края, хозяйственными занятиями населения, а также историческими традициями. Для коми-зырян и коми-пермяков характерен речной тип заселения. Однако коми-пермяцкие селения значительно чаще располагаются при ключах и колодцах, а также по старым сухопутным трактам.
В южных и центральных районах Коми АССР селения расположены компактными группами, гнездами, которые состоят обычно из одного крупного и ряда мелких населенных пунктов. В более северных районах отдельные селения вытянуты цепочкой по берегам рек. У коми-пермяков, кроме зюздинских и язьвинских. гнездовой тип расселения встречается реже, чем у коми-зырян. В.Н. Белицер замечает, что гнездовой тип расселения был характерен не только для народов коми, но и для народов Поволжья ( мордвы, чувашей, удмуртов ), а также русских северных районов, где он господствовал в XV-XVI вв. и частично сохранялся до середины ХХ в.
В книге прослеживается и развитие жилища коми - от землянки и полуземлянки древних племен Прикамья и бассейна Вычегды до трехраздельного и многораздельного дома, в которых еще в конце XIX - нач. ХХ вв. жили большие, неразделенные семьи.
Вера Николаевна выделяет три типа внутренней планировки избы коми-зырян: наиболее распространенный средневеликорусский план, встречающийся у многих соседних народов - русских, мордвы, удмуртов и др., южновеликорусский, который автор считает для коми более древним, и более поздний, сравнительно редко встречающийся белорусско-украинский, известный у украинцев, белорусов, русских южных областей, у мордвы-мокши.
Жилище коми-пермяков, отмечала В.Н. Белицер, близко к жилищу коми-зырян, большинство их изб имело средневеликорусский тип внутренней планировки.
Для коми-зырян и коми-пермяков были характерны два типа связи дома с двором: слитная двурядная и однорядная. В коми-пермяцких постройках В.Н. Белицер выделяет две группы: северную и южную. Постройки северной группы наиболее близки к коми-зырянским, а постройки южной - к постройкам средней полосы России и среднего Поволжья.
Автор описывает и многочисленные обряды, которые сопровождали постройку дома; от их выполнения, по мнению крестьян, зависело счастье и благополучие семьи.
В результате изучения жилых и хозяйственных построек исследовательница объединяет их в две основные группы, выделив в каждой несколько типов - от самых простых до более сложных. Простейшая группа строений - это заслоны и шалаши (односкатные, двускатные и конические). Вторая группа - срубные постройки: однораздельный сруб, двухраздельный дом и трехраздельные дома, имеющие несколько разновидностей.
В разделе, посвященном традиционной пище и утвари народов коми, В.Н. Белицер на основе изучения большого материала пришла к выводу о том, что пища коми близка к пище окружающих народов - русских карел, удмуртов и других, живущих в лесной полосе Восточной Европы. Все они издавна вели комплексное хозяйство, в котором основную роль играли земледелие и домашнее скотоводство. Охота и рыболовство у них имели подсобное значение. У всех этих народов основным в питании был хлеб. Значительное место занимала и рыба. Более ограниченно использовались мясо и молочные продукты.
В разделе о народной одежде прослеживается ее развитие с VIII-III вв. до н.э. (по археологическим материалам) до 1950-х годов. В мужской одежде Вера Николаевна выделяет три комплекса. Первый - это одежда земледельцев; он был распространен у коми-пермяков, живущих в южных районах Коми-Пермяцкого национального округа, а также в бассейне р. Иньвы, где земледелие было исконным занятием населения. В XIX и ХХ вв. он был очень близок к одежде русских крестьян соседних районов. Второй комплекс автор условно называет <промысловым>; он был характерен для охотников и рыбаков. Некоторые его черты сохранялись и в 1950-е годы. Третий комплекс - это одежда оленеводов, характерная в прошлом для коми-ижемцев, а впоследствии распространившаяся на все северные районы Коми АССР. Основные формы и термины этой одежды были заимствованы коми от ненцев. Коми-ижемцы изменили только некоторые детали в покрое и отделке одежды.
В женской одежде, основу которой составлял сарафанный комплекс северновеликорусского типа и рубаха, считает В.Н. Белицер, невозможно выделить полные комплексы и связать их бытование с расселением различных групп населения. Вместе с тем есть отдельные элементы, характерные для некоторых групп коми-зырян и коми-пермяков и различия в материале, деталях покроя и отделке одежды. Значительно лучше сохранили локальные отличия головные уборы замужних женщин. При этом границы распространения того или иного головного убора, как установила В.Н. Белицер, в основном совпадают с границами диалектов языков коми.
В результате анализа материалов по народной одежде коми автор выделяет в ней четыре разновременных пласта. Наиболее древний из них - это простейшие типы одежды и обуви, которые являлись, как она полагает, общими для всех охотников и рыбаков, живших в таежной полосе северо-востока Европы в далекие времена. Второй тип - это одежда, сходная с одеждой других финно-угорских народов. Третий - это виды народной одежды, обуви и головных уборов, которые являются общими для коми и русских. И, наконец, четвертый тип - это меховая одежда, получившая распространение у коми с развитием у них оленеводческого хозяйства. Эта одежда, очень древняя по происхождению, была заимствована ими от ненцев-оленеводов в ХVI-XVII вв.
В книге В.Н. Белицер освещаются и вопросы семьи, семейного быта, духовной культуры народов коми. Автор пишет, что в XIX - I-й четверти ХХ в. у коми наряду с более распространенными малыми существовали и большие семьи. В это время выделившиеся из большой семьи малые семьи долгое время сохраняли общее владение землей, лугами, охотничьими угодьями и рыболовными тонями. Они поддерживали между собой родственные отношения, вместе участвовали в работах, требующих коллективного труда, участвовали друг у друга в семейных торжествах. Некоторые пережитки такой формы общественного коллектива сохранялись и в 1950-е годы.
Проведя анализ терминов родства, которые по мнению Веры Николаевны , служат важным источником при изучении структуры семьи и взаимоотношений между ее членами, она пришла к выводу, что многие из них являются очень древними по происхождению и связаны с материнским и отцовским родом. До 1950-х годов сохранялись разные термины для обозначения родственников со стороны матери и со стороны отца.
В целом, констатирует автор, система родства у коми близка к системе других финно-угорских народов, особенно удмуртов. С переходом к малой семье круг терминов родства сужается, ограничиваясь самыми близкими родственниками. В 1950-е годы в терминологии родства встречалось много русских слов. Наиболее интенсивным процесс замены самобытных терминов русскими был у коми-пермяков.
В монографии уделено внимание и таким вопросам, как знакомство и сближение молодежи, распространение у коми национально - смешанных браков (коми-русских, коми-ненецких), формы брака (по сватовству и умыканием).
Довольно подробно рассмотрены и различные этапы свадебного обряда. Отмечено, что в целом они одинаковы у коми-пермяков и у коми-зырян, отличаясь лишь в деталях, и близки к русским свадебным обрядам Архангельской, Вологодской и Пермской губерний. Это сходство Вера Николаевна объясняет длительными культурными связями народов коми и русских, а также сходными условиями хозяйственного и общественного развития.
Отмечены и некоторые черты сходства коми и удмуртской свадьбы.
В верованиях и обрядах коми-зырян и коми-пермяков, которые с XIV-XVвв. считались православными, согласно исследованиям В.Н. Белицер, до середины ХХ в. сохранялось много дохристианских черт: значительное число поверий и обрядов было связано с представлениями об очистительной и лечебной силе воды, огня ,была распространена вера в добрых и злых существ, колдунов, а также в знахарство и порчу. Встречались пережитки культа растительности, животных, камней. При этом многие религиозные представления и запреты, связанные с почитанием отдельных животных, птиц и рыб, являются сходными у коми с другими финно-угорскими народами, живущими по соседству, что свидетельствует, по мнению автора, об общем древнем слое в их культуре.
Определенный отпечаток на культуру коми, как считает В.Н. Белицер, наложило старообрядчество, которое, как она полагает, способствовало консервации их быта.
С распространением христианства многие древние сельскохозяйственные обряды коми были приурочены к церковному православному календарю; смешение дохристианских верований и православия происходит и в других обрядах, в частности, в наиболее консервативных похоронных и поминальных.
В итоге автор приходит к выводу о том, что православие не проникло глубоко в народное мировоззрение коми. Их дохристианские верования представляли собой сочетание поклонения силам природы с культом различных животных и птиц. Значительное место в верованиях коми занимала охотничья магия, меньшее - сельскохозяйственные обряды. Наиболее устойчивыми среди народных обрядов оказались похоронные и поминальные, имеющие много общего с похоронными и поминальными обрядами других финно-угорских народов, а также поверья, связанные с верой в порчу и колдовство. Таким образом, считает В.Н. Белицер, в религиозных представлениях коми можно выделить ряд разновременных элементов; для них характерно переплетение очень древних верований с более поздними наслоениями.
В монографии уделено внимание и народному творчеству народов коми, которое до этого не было изучено. Это изобразительное искусство - узорное ткачество, художественное вязание и вышивка, набойка, аппликация из меха, резьба и роспись на бытовых предметах и т.д., а также устная поэзия. Описаны разнообразная техника изготовления поясов, богатая орнаментация вязаных изделий - чулок, варежек, перчаток и др., развитое искусство обработки дерева. До 1950-х годов у коми сохранялись образцы набойки, в которых было много общих мотивов с набойкой русских, что В.Н. Белицер объясняет проникновением техники набойного производства к коми из русских районов.
В книге рассматриваются и различные фольклорные жанры: сказки и легенды, песни, частушки, пословицы, поговорки. Наиболее распространенными среди них были сказки - о животных, волшебные, сатирические, шуточные. В.Н. Белицер отметила их широкое бытование и в 1950-е годы. К народным сказкам, по ее мнению, близки по содержанию и форме сказания о богатырях - о Романе Красивом, Илье Муромце, Пере-богатыре и др. Большой интерес представляют легенды о чуди, которая выступает в них как предок современных коми.
Песенное творчество коми (обрядовые, семейно-бытовые, рекрутские, игровые и др. песни), отмечает автор, развивалось в тесном взаимодействии с русским песенным творчеством.
В.Н. Белицер дает описание и своеобразных инструментов коми: это < си-гудок>, заимствованный, по ее мнению, ими от русских, а также многоствольные и одноствольные флейты, созданные коми самостоятельно.
В заключении монографии исследовательница на основе анализа представительных этнографических материалов, а также данных антропологии и языка делает вывод о сложности и разнообразии народной культуры коми. Она пишет, что в ходе исторического развития предки коми входили в соприкосновение с различными народами, которые частично принимали участие в формировании народов коми и отдельных их этнографических групп.
Разнообразие хозяйственной деятельности и культуры определяется, по мнению автора, и характером расселения этих народов на обширной территории, входящей в различные географические зоны.
Сравнительный анализ этнографических материалов позволил В.Н. Белицер выделить в культуре коми разновременные черты, многие из которых относятся к глубокой древности на всей территории лесной полосы Восточной Европы, а частично и Западной Сибири.
Для коми, как и для других народов, населяющих лесную таежную полосу Восточной Европы, был присущ комплексный тип хозяйства, включавший на ранних ступенях общественного развития такие занятия, как охота и рыболовство, а позднее - подсечное огневое земледелие и скотоводство.
Жилищем охотников, а затем и лесных земледельцев, освоивших эту территорию в глубокой древности, была землянка, развившаяся позднее в простейший сруб, встречающийся у многих народов Восточной Европы.
В одежде, отмечает В.Н. Белицер, труднее проследить общий древний слой; можно указать только на общий материал - холщовые и шерстяные ткани, из которых шили одежду древние обитатели лесных районов Восточной Европы.
В итоге автор приходит к выводу о том, что в материальной и духовной культуре народов коми много черт, общих с культурой соседних народов, живущих в лесной полосе Восточной Европы и принадлежащих к различным языковым группам. Она полагает , что эти общие черты относятся к древней культуре пеших охотников и лесных земледельцев, живших здесь до того , как сформировались современные народы.
В.Н. Белицер считала, что многие культурные явления, встречающиеся у народов, населяющих лесную полосу Восточной Европы, а частично и Западной Сибири, принадлежат финно-угорским народам. Это относится как к явлениям материальной культуры (характерный на определенном этапе развития финно-угорских народов конусообразный шалаш, а позднее сруб с кострищем посередине или каменкой, женская туникообразная рубаха, украшенная вышивкой из шерсти или шелка и др.), так и к терминам родства и к народным верованиям (культ растительности, представления о лесных обитателях и др.).
Сопоставляя некоторые стороны культуры народов коми и удмуртов, автор замечает, что наибольшая близость характерна для удмуртов северных районов Удмуртии и коми-пермяков, живущих в южных районах Коми-Пермяцкого национального округа и в Зюздинском районе Кировской области. Их сближает общий тип хозяйства, однотипные земледельческие орудия, весьма близкий тип жилого дома и т.д. Сходны у них и некоторые черты в искусстве, свадебных и похоронных обрядах. Значительно меньше общих черт в народном костюме коми-пермяков и удмуртов. В.Н. Белицер объясняет это тем, что коми-пермяки значительно раньше вошли в соприкосновение с русскими.
Вместе с тем в хозяйстве и культуре коми есть и черты, общие не только с народами, говорящими на финно-угорских языках. Так, коми-зыряне, живущие по Средней Вычегде, Мезени и Вашке, а также по Средней Печоре и Ижме, по культуре близки к карелам и русским Архангельской области. Это нашло отражение в занятиях населения, особенно в охоте, рыболовстве, а также в типе расселения, особенностях жилого дома. Сходные черты прослеживаются и в некоторых поверьях.
В целом в результате анализа этнографических материалов В.Н. Белицер приходит к выводу о том, что в культуре финноязычных народов нельзя выделить какие-то специфические черты, общие с представителями пермской языковой группы, кроме языковой близости. По ее мнению, отсутствие особого культурного единства между народами финно-угорской языковой семьи свидетельствует об очень большой древности языковой общности этих народов, которая относится к тому отдаленному времени, когда не было тех этнических особенностей, которые существовали в 1950-е годы. Поэтому, считает автор, неправомерно искать в современной культуре отдельных финно-угорских народов особой близости.
Более ощутимы в культуре народов коми длительные и тесные контакты с русскими и их культурой. Коми вошли в соприкосновение с русскими в то раннее время, когда их народная культура окончательно еще не сформировалась; усваивая многие культурные достижения своих русских соседей, коми перерабатывали их по-своему, обогащая тем самым свою культуру и передавая русским навыки, выработанные в условиях таежной природы. Многие районы северо-восточной окраины Европы осваивались коми и русскими совместно. Определенную роль в освоении ряда районов на Язьве, Печоре и Вычегде сыграли русские старообрядцы.
В Коми-Пермяцком национальном округе встречаются целые районы, заселенные русскими переселенцами ХVII-XVIII вв.
Положительную роль в развитии культуры коми, полагает В.Н. Белицер, сыграли поселения русских крестьян, вывезенных из центральных районов России на территорию края для работы на заводах. Способствовала сближению русских и коми, по ее мнению, и общая религия.
В результате давних контактов коми и русских в народной культуре коми появились черты, связанные с русской культурой. Так, автор считает, что трехполье было заимствовано коми от русских. С русским влиянием связывает В.Н. Белицер и способ сушки снопов в ямном и верховом овинах.
Особенно четко прослеживаются русские черты, по ее мнению, в комплексе народной одежды. Так, мужской костюм коми ничем существенно не отличался от русского мужского костюма соседних северных районов. Близки к русским верхняя одежда - мужская и женская, а также обувь. Много аналогий также между женскими головными уборами коми и русских.
Ранние самобытные черты в одежде коми сохранились в некоторых женских головных уборах, разноцветных тканых поясах, охотничьей обуви и других предметах народного костюма, которые, как отмечает автор, вместе с более поздними заимствованиями были переработаны и составили народный комплекс традиционной одежды.
Заметны следы русского влияния и в строительной технике и типах жилища народов коми, хотя как замечает В.Н. Белицер, судя по археологическим материалам, срубная техника была известна коми до контактов с русскими.
В народной кухне коми она выделяет как самобытные блюда -шаньги, рыбный пирог, квашеную рыбу, пельмени и др., так и характерные для русской кухни - кислый хлеб, а также другие хлебные изделия.
Более поздними заимствованиями коми от русских автор считает четырехколесную телегу, тарантас, дрожки, а также большую часть конской сбруи.
Значительно больше, отмечает она, самобытных черт среди водных средств передвижения.
Много самобытного сохранилось и в охотничьем и рыболовном комплексе коми. Это родовые охотничьи угодья, промысловый охотничий костюм, ручные нарты, лыжи, подбитые мехом и др. К русским заимствованиям автор относит ружье <пищаль>, компас <матку>, а также некоторые приемы, связанные с ружейной охотой.
В сложном комплексе народных верований, поверий, обрядов, как отмечала В.Н. Белицер, трудно выделить местные и заимствованные от русских явления. Она объясняет это тем, что они, вероятно, рано вошли в культуру коми, в то время, когда оба народа совместно осваивали лесные северо-восточные районы Европы.
Весь комплекс оленеводческого хозяйства был заимствован коми от ненцев, в основном, не ранее XVI в., когда коми (ижемцы) появились на Ижме и Печоре.
Все эти культурные заимствования, по мнению В.Н. Белицер, обогатили народную культуру коми.
Эта капитальная монография В.Н. Белицер не утратила своей научной значимости и в наши дни. До настоящего времени это единственное исследование, принадлежащее перу одного автора, в котором так полно и всесторонне освещаются культура и быт двух близко родственных народов. К нему обращаются все, кто в той или иной мере прикасается к народной культуре коми, изучают их историю.
Удачно дополняют содержание книги имеющиеся в ней указатель терминов на языках коми и многочисленные иллюстрации, всесторонне освещающие культуру и быт этих народов; среди них немало фотографий и зарисовок, исполненных автором.
Автору этих строк в течение многих лет довелось работать вместе с В.Н. Белицер, в том числе и во время подготовки рукописи монографии <Очерки по этнографии народов коми> к печати, а также участвовать в работе Мордовской этнографической экспедиции, которую в 1950-60-е годы возглавляла Вера Николаевна.
В.Н. Белицер была доброжелательным, простым в общении с людьми человеком. В экспедиционных отрядах, которыми она руководила, и в которых, как правило, были люди разных специальностей (этнографы, лингвисты, фольклористы, антропологи) и разных национальностей, неизменно устанавливались дружеские отношения, царила атмосфера большой семьи. Вера Николаевна всегда бережно заботилась о сотрудниках экспедиции и неизменно находила общий язык с информаторами, увлеченно и скрупулезно собирая материал для научных исследований. Она являла собой замечательный пример для молодых исследователей-этнографов, стойко перенося трудности непростых полевых условий и утомительных переездов.
Своим богатым опытом исследователя-полевика и знаниями по этнографии финно-угорских народов Вера Николаевна щедро делилась с коллегами; она была научным консультантом в отделении истории АН СССР, а также в научных учреждениях республик Коми, Карелии, Башкирии, Татарии.
Ученики и аспиранты В.Н. Белицер работают в разных республиках Поволжья и Приуралья; многие из них стали известными учеными.
До конца жизни В.Н. Белицер была связана с Институтом этнографии. С 1968 по 1978 год она была старшим научным сотрудником-консультантом, а когда по состоянию здоровья ушла на пенсию, была зачислена на общественных началах на должность старшего научного сотрудника.
1. См.: Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, 1947, №2. С. 59-63.
2. Подробнее о работе этой экспедиции см.: В.Н. Белицер. Отчет о работе комплексной экспедиции в Коми АССР. // Краткие сообщения ИЭ АН СССР, 1947, №3. С.3-12.
3. См.: Краткие сообщения ИЭ АН СССР, 1950,№10. С. 15-28.
4. См.: В.Н. Белицер. О формировании культуры верхнепечорских и нижнепечорских коми. // СЭ, 1952, №1. С.60-74; Она же. Этнографические работы на Печоре.// Краткие сообщения ИЭ АН СССР, 1952, вып.14. С. 23-33.
5. См.: Краткие сообщения ИЭ АН СССР,1952, вып.15. С.27-38.
6. Подробнее об итогах работы этой экспедиции см.: В.Н. Белицер. Этнографические работы в Удорском районе Коми АССР в 1952 году. // Краткие сообщения ИЭ АН СССР, 1953, вып. 19. С. 16-27.
7. См.: Краткие сообщения ИЭ АН СССР, 1953, вып. 18. С.81-90.
| фотоархив |