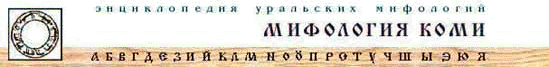
при поддержке компании
ТелеРосс-Коми
| карты |
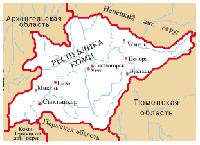 Республика Коми |
| регионы |
| публикации |
Публикации :: Методика полевых исследований
Научная риторика и авторитет поля
Сурво А.А.
Сурво А.А. Научная риторика и авторитет поля // "Символ в системе культуры: символические миры и знаковые системы". Сборник научных статей по материалам конференции. Научный редактор Фадеева И.Е. Сыктывкар, Коми пединститут, 2004, с.10-18
Научные интерпретации, связанные с проблематикой народной религиозности, сегодня нередко ангажированы религиозной и магической риторикой, что говорит о некоторой неопределённости различий между субъектами и объектами исследований. Подчёркнуто знаковый характер имеет, например использование ключевых религиозных понятий и, в том числе, написание их с заглавной буквы (также, как и “прописное” бытование этих же понятий в предшествующие десятилетия), намёки авторов на их близость к ритуальной сфере, дифференциация знахарей и шаманов на “настоящих” и “шарлатанов”, когда критериями истинности, видимо, обладают сами исследователи, и т.п.
Р. Барт отмечал, что противоположностью идеологизации являются магические типы поведения, актуализирующиеся в связи со слепым страхом перед разрущением социального мира (Барт, 1989, с. 129). А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко рассматривают магию и цивилизацию в качестве альтернативных стратегий человеческого бытия, причём ни та, ни другая не проявляются в чистом виде. Магия манифестирует синкретичность культуры и стремление человека минимизировать количество знаковых форм. Цивилизирующее влияние, напротив, рационализирует действительность дисретным образом, и непосредственное, магическое, восприятие мира сменяется преобладанием цивилизующих форм, рутинизированной магией (религия, искусство, наука, философия и т.п.). Таким образом, магия оказывается отторгнутой на периферию культуры, но кризис цивилизации освобождает место для экспансии магии (Пелипенко, Яковенко, 1998, с. 267-271).
В данной связи интерес вызывают не столько взгляды тех или иных авторов, сколько специфика идеологического запроса на иррациональное со стороны культурной среды, представителями которой являются авторы интерпретаций. Речь идёт и о научном дискурсе, казалось бы, по определению должным быть эталоном рациональности, и о более обширных общественно-политических контекстах, провоцирующих интерпретаторов на выбор письма и отражающих характер взаимосвязей между “центром” и “периферией” (см. Лотман, 1992, с. 7, 14; 1996).
К. Леви-Строс отмечает отсутствие качественной разницы между мифической и позитивной формами мышления, поскольку различия касаются более природы вещей, над которыми проводятся интеллектуальные операции, нежели самих интеллектуальных операций (Lévi-Strauss 1955). В процессе собирания, опубликования и интерпретации полевых и архивных материалов происходит дублирование элементов рутинизированной магии отсылками к текстам периферии (о проблеме авторства и авторитета см.: Аверинцев, 1994). Именно слова авторитет и авторитетный нередко присутствуют в научных интепретациях, подчёркивающих особую значимость/знаковость “чужого”, “потустороннего”, “коммуникации с потусторонним” и т.п. туманного словоупотребления, не говоря уже о проникновении в научные тексты экзотической лексики, целесообразность употребления которой также не очевидна. Например, финляндские тексты изобилуют словами pokoiniekka, praаsniekka и пр. заимствованиями из языковой действительности “периферии” (где они, в свою очередь, являются заимствованиями из русского), причём, знание авторами русского языка нередко ограничивается подобными священными понятиями. В качестве интернационального примера можно привести использование атрибута народный в определениях различных явлений народной культуры, чем подразумевается существование некой абстрактной и универсальной культуры, её дифференциация на народную и не народную, что довольно своеобразно выглядит при интерпретациях народной религиозности, поскольку в это понятие заложено противопоставление повседневных реалий догматическим аспектам. Однако секулярный характер научного подхода предполагает исключённость иследователя из обеих конструируемых им систем, и поэтому не всегда ясно, на чём основывается научный взгляд на вещи, внеположенные рациональному мировосприятию.
Объяснением этого противоречия, видимо, служит то, что взаимодействие между т.н. пишущей и бесписьменной культурами имеет амбивалентный характер, также и иную природу, охарактеризованную выше как экспансия магии. Свойственные научному дискурсу языковые заимствования особым образом подчёркивают авторитетность цитирования народной культуры, верований, фольклора, мира предков и пр. исследовательских объектов и способствуют обновлению авторитетного статуса самой рутинизированной магии: “описания “дикого” знака (знака других) суть дикие описания (нашего) символа” (Тодоров, 1999, с. 262). Рассмотрим этот аспект научной риторики в мифологических контекстах процесса памяти/забывания.
Объектом почитания в мифологии финнов были не покойники вообще, но лишь наиболее уважаемые предки родов или семей, соблюдение заветов которых считалось для потомков священной обязанностью (Harva, 1948, с. 510-511). Карельский поминальный праздник piirut, проводившийся после смерти обоих родителей, являл собой ещё более конкретное отношение к миру предков. Плакальщица приглашала на поминальную трапезу родственников-покойников вплоть до девятого поколения (Haavio, 1934, с. 88). Мир предков структурирован и конечен. Смысл ритуала не только в (вос)поминании, но и в вытеснении из структуры мира предков самого дальнего поколения.
В уральских языках числа от 1 до 8 и число 10 являются абсолютными. В свою очередь число 9 в финно-угорских языках образовано с “использованием” десятки. Например, финское “девять” изначально буквально значило “одного нет”, т.е. как бы “десять минус один” (Kulonen, 1994, с. 46-47; ср. с сюжетом “исключающего” счисления: Богданов). В ритуале piirut мир предков двойственнен, совмещая постоянство с непостоянством, статику с динамикой. Он состоял из (пра)отцов и (пра)матерей девяти поколений, но на периферии этого мира, с его “обеих сторон” - поколения, находящиеся в “ожидании ухода”. Старшее поколение живых постепенно готовилось к утрате статуса в социуме (приготовление покойницкой одежды заранее и т.п. действия), кульминацией чего становился разрыв с миром живых и обретение статуса в мире предков в рамках поминального обряда, что также означало утрату статуса старшим поколением мёртвых.
Бесписьменная культура не ориентирована на умножение текстов и ей присущ тип памяти, при котором имеет место стремление сохранить сведения о порядке, а не о его нарушениях (Лотман, 1987, с. 4-5). Для ритуала характерно неповторимое повторение событий мифологического начала, целью чего является обновление прежних форм, а не создание абсолютно новых. При существовании лишь “истории” память переполнилась бы её ужасами и было бы позабыто самое главное, глубинный смысл ритуала: преодоление сил тьмы и вечной смерти (Евзлин, 1993, с. 168, 190). В ритуале piirut представление о девяти поколениях отражает одновременно и структуру мира предков мира и средство общения с ним. В карельской традиции бездетная замужняя женщина могла обратиться за помощью к предкам вплоть до девятого поколения, если только не вышла замуж против воли родителей (Сурхаско, 1985, с. 15-16). Кодирование женской сексуальности в многочисленных магических запретах в качестве опасной для социума силы, возможно, связано с ритуальным характером осмысления проблем демографии и с восприятием женщины как потенциальной превносительницы “лишней” информации: “Neuvol muan piäl eletää eikä viäem paljouvvel”. “Согласием на земле живут, а не множеством/большим количеством väki/людей/массы/бесстатусной магической силы” (финская пословица, Лениградская область, Virtaranta 1978, с. 51; ср. с восточнославянскими представлениями о “зажившемся”, расходующим чужую долю: Байбурин, 1993, с. 102).
Иной мир ритуала piirut, находящийся в состоянии перманентного ожидания нового поколения, является потенциальным адресатом “лишней” информации и её адресантом (мотив реинкарнации) во взаимоотношениях социума с иным/чужим миром, и, в то же время, строго ограниченным фондом памяти. Каждое поколение покойников лишь временно занимает место в иерархии иного мира и не отождествляется полностью с числовым кодом: имена “перемещаются” по числам иерархии. Новое поколение, переходящее в иной мир, приводит в движение оба мира. Ритуал означает смерть–изменение как для живых, так и для мёртвых. Форма иного мира, абстракция чисел, наполняется конкретным содержанием - именами поколений предков, “перемещающихся” в рамках каждого ритуала в соответствии с числами иерархии.
Без чёткой структурированности и ограниченности мира предков ментальное пространство социума переполнилось бы бесконечной цепью “смертной” информации. В ритуале мир предков отвергается и создаётся заново в процессе неповторимого повторения процесса счёта, что обновляет фонд памяти социума и конкретизирует взаимосвязи живых с предками. Счёт в поминальном ритуале амбивалентен и ведётся в “обе стороны”: “От девятого поколения до девятого поколения” (Сурхаско, 1985). Оба уходящих поколения, являясь “девятыми”, манифестируют отсутствие/присутствие “единицы”: абстрактность, запредельность “начала отсчёта” как для живых, так и для мёртвых, и одновременно конкретизацию идеи “первого” в процессе (дез)актуализации содержаний числового кода.
В 1990 году в Южной Карелии (Лавонен, 1993) при проведении поминального праздника, сравнимого с ритуалом piirut, было зачитано уже 240 имён покойников. Целью ритуала не было забывание и обновление фонда памяти, но включение новых имён предков в принципе бесконечный список. Переход от циклической модели к линеарной, очевидно, связан с дезактуализацией представлений о реинкарнации, не соответствовавшим ни религиозной догме ни повседневным реалиям. Многоязычие повседневности способствовало формированию представлений об ином мире, соответствовавших уровню и масштабам этно-религиозных контактов. “Боженьки” (иконы) наделялись признаками языческих духов, бывших одновременно источником кризисов и помощью в их преодолении, а “Оспица Ивановна”, напротив, религиозными чертами (“божья болезнь”). Ключевые религиозно-магические понятия карел, маркировавшие “нижний” и “верхний” миры, являлись заимствованиями из русского: “Счастлив тот умирающий, момент ухода которого приходится на период между rostuo и vierissä. В этом случае двери tšarstva и врата roaju нараспашку. Тогда умершего в oatu не забирают. На небо также попадает умерший посреди roatintšojen (праздник примерно через неделю после пасхи), также и умерший при новой луне” (Paulaharju, 1995 (1924), c. 85). Амбивалентный характер верований и языковая периферийность ритуального лексикона отсылают к идее двойственного потустороннего, которое совмещает в себе черты “нижнего” и “верхнего” миров через отождествляемую с ними инаковостью. В процессе этно-религиозного и межэтнического взаимодействия представления о родовом мире предков и межродовая модель брака утрачивали доминирующее значение. В этом, возможно, одна из основных причин трансформации мотива реинкарнации в преимущественно поэтический троп в уральских языках (см. Криничная, 1989).
Этнолокальная специфика представлений о мире предков, отсылая к глубинным уровням формирования и изменения моделей взаимодействия с соседними этническими группами, свидетельствует о различных степенях диалогичности или конфликтности восприятия “чужого”. Например, в религиозно-магической практике коми имя пропавшего человека (или попавшего под влияние “чужого”) включалось в общий поминальный список для церковной панихиды по всем усопшим (Шарапов 2003, с. 364), а в представлениях финнов Ленинградской области подобные действия связываются с наиболее одиозными случаями колдовства: “Tekköö kirkon kautta. / Делает через церковь” (полевые материалы). Колдунья, как правило, представляет иноязычное и иноконфессиональное окружение, контакты с которым ритуализируются благодаря магическим интерпретациям.
Из экспедиции 1906 г. Л. Кеттунен писал о представлениях лесных финнов: “Я не раз сожалел, что не пытался уговорить Пекку рассказать об его отце. Уверен, что при правильном подходе я смог бы узнать многое из того, что Пекка унёс с собой в могилу. Ведь его отец был, якобы, как и некоторые другие ведуны, носителем учения, согласно которому, человек, умерев, в итоге попадает “семенем в землю” и в конце концов рождается заново в мир продолжать человеческий цикл” (Kettunen, 1945, c. 33). Лесными финнами (metsäsuomalaiset) назывались финны пограничного района Швеции, в XVII столетии переселившиеся туда из центральной Финляндии. Население края, не поддаваясь ассимиляции, не стремясь к овладению шведским языком, находилось в конфликте с “цивилизирующим” шведским влиянием, как и собственно финляндские финны, что, очевидно, способствовало сохранению архаических представлений (ситуация амбивалентна: представление о реинкарнации исключало инородцев из смыслового континуума лесных финнов).
В подобной ситуации оказались финляндские шведы. Формальное двуязычие Финляндии имеет интересные особенности на уровне повседневности. Сегодня значительная часть финских учащихся и ректоров учебных заведений выступает за отмену принудительного изучения шведского языка, степень официальной поддержки которого находится в противоречии с прагматическим значением языка. Финляндская языковая проблема имеет давнюю предысторию. К.Я. Грот писал о своём современнике поэте Й.Л. Рунеберге: “Рунеберг принадлежит шведской словесности только по языку, по духу же он в полном смысле представитель своих соплеменников. Финны, которые с давних времён отличаются редкой способностью к поэзии, нашли в нём верный орган своей внутренней жизни. По направлению он также не имеет никакого сходства с новой школой шведских поэтов: их вдохновительница – история; его муза – природа. Финские простолюдины, которые, конечно, лучше всех постигли бы красоты его простых, прямо из души вылившихся песен, не могут читать их на языке оригинала, а другие сословия Финляндии, из равнодушия ли к словесности или по недоверчивости к силам своей собственной нации, не скоро оценили поэта” (Грот, 2004 (1839), с. 230-231).
В этом году празднуется 200-летие со дня рождения Й.Л. Рунеберга, чем завершается определённый цикл культурно-идеологического диалога-конфликта. К.Я. Грот несколько смягчает акценты, говоря о единой нации, монолитность которой по-прежнему ставится под сомнение противоречиями межкультурных контактов. Немало представителей “других сословий” отождествляли себя со Швецией, в чём упрекают и современных сторонников сохранения официального двуязычия их наиболее радикально настроенные оппоненты. Сторонники официального двуязычия обосновывают свою позицию важностью сохранения преемственности с культурно-историческим прошлым. Противная сторона имеет отличное представление об этом прошлом и т.д. В центре проблемы – имена финляндских культурных деятелей, неопределённость этнической и идеологической идентичности которых вполне соответствует современному дискурсу умолчаний и (само)цензуры. Во внешне структурированном финляндском пространстве Й.Л. Рунеберг играет роль мифологемы “девятки”. Область пересечения планов содержания и выражения его творчества, является смыслообразующей периферией для различных знаковых систем, источником манипуляций, объяснительных моделей и лингвистических парадоксов.
Любопытными примерами доминации ритуальной модели (вос)поминания служат современные мартирологи. Здесь соотнесённость с конкретными культурными ландшафтами и территориями может быть не менее условной: диахроническая неоднозначность исторических событий нивелируется синхронной маркировкой “предков” в качестве “жертв репрессий”, хотя в реальности были жертвы, жертвы жертв, жертвы жертв жертв и т.д. (что ещё менее однозначно, если принять во внимание религиозное значение жертвенности). Иначе говоря, преодоление множащихся уровней семиотизации исторического прошлого происходит посредством перенесения ответственности с конкретных личностей на абстракции, и единственно виновной стороной оказывается идеология (или ряд ключевых фигур того или иного исторического периода), а объекты репрессий, соответственно, приобретают свойства безответственной и однородной массы, известной поименно, но лишённой активной роли в исторических событиях (мифологема “все - жертвы”). В то же время, секулярный характер множения текстов проблематизирует отчуждение от этно-религиозных реалий, провоцируя перекодировку симуляций ритуальной модели согласно моделям народной религиозности, когда симуляции, на самом деле, подвергается само отчуждение.
В 2001 г. Э. Лахти-Аргутина, активистка петрозаводского отделения “Мемориала”, издала в Финляндии мартиролог, в котором приводится список имён около 8000 финнов, репрессированных в 1930-50-х гг. Исследование стало промежуточным результатом работы в различных архивах России и почти без исключения касается финнов-коммунистов, бежавших из Финляндии от репрессий после поражения в Гражданской войне, или позднее перехавших в СССР из США и Канады. Не менее интересны коннотации мартиролога в контексте доминантных для финляндского культурного пространства представлений о русской инаковости как о магическом двойнике и локусе смерти. В имеющемся у меня экземпляре книги есть симптоматичный комментарий, оставленный предыдущим читателем:
“Vellasta pie vekkonais[,]
Pukko pie hihassais!”
“Считай [или: если считаешь] русского за своего брата[,]
[то] финку держи в своём рукаве!”
Известной финской поговоркой смысл мартиролога концентрируется в ёмком метаязыковом обобщении, чем преодолевается некорректная для традиционного мировосприятия масштабность (точнее, бесконечность) числового кода.
Понятие väki двойственно, обозначая, также как и его русское соотвествие, одновременно безликую силу/массу и мира живых и мира мёртвых. Видимо, с этой двойственностью соотносится и процесс вымещения самого дальнего поколения из коллективной памяти на смысловую периферию, на апелляции к которой, в свою очередь, основано использование бесстатусной силы/массы в различных магических ритуалах: “У тебя есть люди (т.е. черти), и у меня есть люди. Смотрей!” (предупреждение-угроза из разговора двух колдуний; полевые материалы). Женщины, считавшиеся кодуньями, разговаривали по-русски, но рассказчица этой ситуации была финкой, и наша беседа велась на финском языке. В подобных случаях, когда повествование, казалось бы, не нуждается в переходе на другой язык, типично маркирование инаковости и языка инаковости в качестве источника магических интерпретаций, что можно наблюдать также в формально неоправданном научном употреблении языковых заимствований и придании исследовательскому полю особого авторитетного статуса.
Примечания:
Аверинцев С.С. Авторство и авторитет // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Отв. ред. П.А. Гринцер. М.: Наследие, 1994, с. 105-125.
Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993.
Барт Р. Из книги “Мифологии” // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989, с. 46-130, коммент. с. 574-577.
Богданов К.А. Счет как текст в фольклоре // http://www.ruthenia.ru/folklore/bogdanov3.htm
Virtaranta Pertti. Inkeriläisiä sananlaskuja ja arvoituksia. Helsinki, 1978. (Castrenianumin toimitteita, 18.)
Грот К.Я. Знакомство с Рунебергом // Рунеберг Й.Л. Избранное. Лирика (с параллельным шведским текстом). “Сказания фенрика Столя” (отдельные баллады). “Король Фьялар”. Критические статьи. Письма / Пер. со швед. В. Дорофеева, Е. Дорофеевой; Сост., вступ. ст. и коммент. Е. Дорофеевой. СПб.: Издательский дом “Коло”, 2004, с. 230-238; коммент. с. 266. (Статья впервые опубликована в 1839 г. в журнале “Современник”, XIII, с. 5-57.)
Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993.
Kettunen L. Ensimmäinen matka metsäsuomalaisiin 1906 // Kettunen L. Tieteen matkamiehenä. Kaksitoista ensimmäistä retkeä 1907-1918. Porvoo – Helsinki: WSOY, 1945.
Криничная Н.А. Мотив реинкарнации в преданиях народов уральской языковой семьи // Материалы VI Международного Конгресса финно-угроведов. Т. 1. М., 1989.
Kulonen Ulla-Maija. Lukusanoista // Hiidenkivi, 1994. №6.
Лавонен Н.А. Из наблюдений о бытовании погребально-поминального обряда Южной Карелии // Фольклористика Карелии. Ред. Н.А. Криничная, Э.С. Киуру. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1993, с. 24-48.
Lahti-Argutina Eila. Olimme joukko vieras vaan. Venäjänsuomalaiset vainouhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun. Vammala: Siirtolaisinstituutti,Vammalan kirjapaino Oy, 2001, 652 c.
Lévi-Strauss C. The Structural Study of Myth // Journal of American Folklore. Vol. 68. №270, 1955. С. 428-444.
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: “Гнозис”, 1992.
Лотман Ю.М. Несколько мыслей о типологии культур // Языки культуры и проблемы переводимости. Отв. ред. Б.А. Успенский. М.: Наука, 1987.
Лотман Ю.М. Семиотическое пространство // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: “Языки русской культуры”, 1996.
Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Языки русской культуры, 1998.
Полевые материалы, начало 1990-х гг., Волосовский район Ленинградской области, дер. Б. Кикерино.
Сурхаско Ю.Ю. Семейные обряды и верования карел. Конец XIX – начало XX вв. Л.: Наука, 1985.
Тодоров Цв. Теории символа / Пер. с фр. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998. – 408 с.
Haavio Martti. Piirut. Suvun vainajien juhla // Kotiseutu, 1934.
Harva Uno. Suomalaisten muinaisusko. Helsinki: 1948.
Шарапов В.Э. Имя, отражение и тень: о “мужских” и “женских” приемах в любовной магии коми. // "Адам и Ева". Альманах гендерной истории. (Под ред. Л.П. Репиной), Москва, "Индрик", 2003, с.355-366.
| фотоархив |