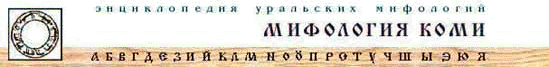
при поддержке компании
ТелеРосс-Коми
| карты |
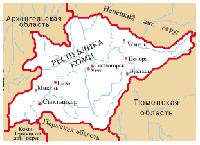 Республика Коми |
| регионы |
| публикации |
Публикации :: Методика полевых исследований
Мифология "забытого" текста
Сурво А.А.
"На патриархальной свалке устаревших понятий, использованных образов и вежливых слов..."
Егор Летов
“Русское поле эксперимента”
При обсуждении проблематики и методики полевых исследований, как правило, акцентируется внимание на предполагаемой достоверности и объективности архивных отчётов, терминологических дискуссиях и теоретизировании по поводу корректности взаимоотношений "исследователя" и "информанта". В то же время, широкий спектр контекстуальных и внеконтекстуальных взаимосвязей исследований (собственно научные тексты и их научно-популярные вариации), основанных на том или ином полевом материале, не говоря уже о текстах, представляющих собой новые уровни семиотизации и строящихся (преимущественно) на отсылках к другим научным работам, представлен в совершенно разнородных и, особенно, "забытых" текстах.
Понятие "забытого" текста отсылает к работам Ю.М. Лотмана, посвященным рассмотрению структуры семиотического пространства [13; 14; 17 и др.]. Человек той или иной культуры реализует поведение, предписываемое определёнными нормами, и отклонение от нормы не имеет значения, нерелевантно, просто не существует, хотя практически имеет место в данной культуре. Созданная таким образом картина мира будет восприниматься как реальность и современниками, и последующими поколениями, формирующими свои представления о прошлом на основе подобных текстов. Когда целые пласты маргинальных, с точки зрения данной метаструктуры, явлений культуры вообще никак не соотносятся с идеализованным ее портретом, они объявляются «несуществующими». Если же исследователь пытается разобраться в прошлом, не принимая на веру сложившиеся стереотипы, то он сталкивается с «забытыми» текстами. Поэтому, начиная с работ культурно-исторической школы, любимым жанром многих исследователей являются статьи под заглавиями "Неизвестный поэт XII века" или "Об еще одном забытом литераторе эпохи Просвещения" и пр. Иначе говоря, на метауровне культуры происходит семиотическая унификация, а на уровне описываемой семиотической "реальности" кипит разнообразие тенденций [16].
Именно наименее известные и ранее не востребованные тексты (это, прежде всего, опубликованные и неопубликованные полевые записи), имеют особую онтологическую ценность в понимании характера взаимосвязей между «субъектами» и «объектами» полевых изысканий. Ситуации, в которых исследователь сначала собирает материал и является, таким образом, адресатом информации, а затем делает обобщения и превращается в адресанта, казалось бы, строятся на известной коммуникативной модели [26]:
контекст
информация
отправитель —————————————— получатель
контакт
код
Ю.М. Ломан, признавая приведённую Р. Якобсоном модель в качестве важного вклада в рассмотрении взаимосвязей проблем изучения языка и культуры с теорией коммуникативных систем, в то же время отмечает, что в механизме культуры коммуникация происходит, как минимум, по двум каналам, и можно говорить о двух типа коммуникации: "Я-ОН" ja "Я-Я¹". Исследователь отмечал более динамичный характер культур, ориентированных на сообщение. Классическим примером может служить европейская культура XIX в. со свойственной ей тенденцией к безграничному увеличению числа текстов, дававшим быстрый прирост знаний: «Оборотной стороной этого типа культуры является резкое разделение общества на передающих и принимающих, возникновение психологической установки на получение истины в качестве готового сообщения о чужом умственном усилии, рост социальной пассивности тех, кто находится в позиции получателей сообщения. Очевидно, что читатель европейского романа нового времени более пассивен, чем слушатель волшебной сказки, которому еще предстоит трансформировать полученные им штампы в тексты своего сознания; посетитель театра пассивнее участника карнавала. Тенденция к умственному потребительству составляет опасную сторону культуры, односторонне ориентированной на получение информации извне». В типе коммуникации «Я-ОН» код и информация остаются неизменными, переменными элементами являются лишь адресат и адресант, в основе чего лежит предположение, согласно которому какая-то информация известна «мне», но неизвестна "ему". В свою очередь, в автокоммуникация "Я-Я¹" адресат функционально приравнивается третьему лицу, и.какой бы парадоксальной не казался этот тип коммуникации, он не так уж и редок и играет немалую роль в общей системе культуры. В отличие от коммуникации первого типа, где информация перемещается в пространстве, при коммуникации "Я-Я¹" передача информации происходит во времени, благодаря появлению второго, дополнительного кода, наделяющего уже известные сведения качеством новой информации. Схематично это можно выразить следующим образом [15]:
контекст изменение контекста
информация 1 информация 2
Я → ————————— → —————————— → Я¹
код 1 код 2
Сложность анализа «полевых» текстов связана с тем, что повседневность «поля», как правило, противоречит ставшей общепринятой практике «музеефицирования» того, что в том или ином случае понимается под традицией не только исследователями, но, подчас, и их информантами, и ставит под сомнение релевантность ряда обобщений, претендующих на универсальность. Э. Лич обращает особое внимание на план выражения научных текстов, в которых зачастую присутствует «нагромождение деталей», вызывающее вместо понимания описываемой культуры совершенно обратное чувство у новых поколений исследователей. Упрощённые изложения, которые Э. Лич называет «этнографическими "консервами"» [12: 8], также не решают этой проблемы. Альтернативный подход, применяемый автором, основан на его собственном опыте. Иначе говоря, интерпретации исследователя основаны на коммуникационной модели "Я-Я¹". Не случайно аналогии можно найти в трудах Л.С. Выготского и М.М. Бахтина [25: 129], интерпретируя же К. Леви-Строса [10: 17] Э. Лич напрямую обращается к автокоммукационной сути ритуала [12: 55, 58]. Исследователь специально приводит общеизвестные факты, а основным этнографическим источником у него является Библия. Таким образом, Э. Лич находит дополнительные коды и каналы передачи информации там, где сложились общепризнанные стереотипы. Причём, исследователь не без остроумия определяет круг своих читателей как "студентов младших курсов" [12: 117]. Автор особо оговаривает это в последнем абзаце монографии, "под занавес" (намекая на карнавальность ситуации?). Э. Лич как бы подчёркивает особую авторитетность своего исследования, конструируя образ идеального адресата коммуникативной модели "Я-ОН" ("студенты младших курсов"). На самом деле автор призывает (будущих) исследователей к субъективному осмыслению явлений культуры (модель "Я-Я¹"), основанному на личном восприятии, на опыте, (ещё) не отягощенном научными стереотипами: «…мы выражаем надежду, что каждый читатель привлечёт свой собственный опыт для иллюстрации представленных мной аргументов» [12: 8]. Пусть употребление множественного числа и является обычным приёмом научной риторики, но в данном случае его сопряженность с «я» в самоидентификации автора («мы выражаем» и тут же: "мои аргументы") подчёркивает семиотическую неопределённость авторской "самости". Э. Лич, выдвигая личные аргументы, уже видит в потенциале "мы".
В то же время, читателями Э. Лича являются именитые исследователи, что он, естественно, учитывает и, значит, заведомо ставит своих коллег в патовую ситуацию: все "мы" на равных, "начинающие студенты", а остальные адресаты, лишённые самокритики, попадают в категорию "не читателей". Позиция, выбранная Э. Личем, напоминает эпизод из фильма «Неподкупный», где чикагские полицейские связаны с мафией или не осмеливаются ей противостоять, и поэтому опытный сыщик берёт к себе в сотрудники курсанта полицейской школы. Также и Э. Лич ищет единомышленников среди тех, кто (ещё) не коррумпирован «этнографическими «консервами»» научной риторики.
«Даже простейшее техническое действие имеет два значения: биологическое и «выражающее»», пишет Э. Лич [12: 15]. Аналогичные дефиниции присутствуют в работах других исследователей, обращающих внимание на взаимодействие «фактической» действительности с «символической»: «мир фактов» и «мир знаков» у Лотмана [17: 401], что соответствует противопоставлению «символа» и «знака» в тексте Э. Лича [12: 24], соотношение «ритуала» и «события» у А.К. Байбурина (работа озаглавлена как «Ритуал: между биологическим и социальным» [3]; если использовать определения Э. Лича: «между биологическим и выражающим/выражаемым»), классификация форм критики на «университетскую» и «интерпретативную» у Р. Барта [4], выделение практического и символического значений религиозных обрядов в исследовании Э.Б. Тайлора «Миф и обряд в первобытной культуре» [24] и т.п.
Периферия «забытых» текстов служит адаптивной средой, способствующей взаимному пересечению плана выражения и плана содержания (в том числе) культорологических текстов, что условно можно определить как «чисто теоретический» и «чисто описательный» («мир знаков» и «мир фактов»). Осмысление причин фиксирования именно тех или иных фрагментов «поля» в письменном виде и иконических образах даёт возможность понимания внутренней логики научной мифологии, способствующей формированию научной идентичности исследователей и обретению ими связи с историей той или иной дисциплины. В этом контексте тема «поля» имеет доминантную и константную значимость, усиливающуюся в маргинальных ситуациях (дез)актуализации теоретическиой базы изучения т.н. народной культуры, что может сопровождаться и по-своему провоцироваться, например, сменой исследовательских поколений: уходящее поколение представляет собой тех, кто «был в поле», а возможности новичков вкусить прелести полевого путешествия не очевидны (с разными вариациями, когда «поле» замещается «архивом», исследовательской «школой» и т.п.). Соответственно, чем меньше учёных сегодня занимается действительно продолжительной полевой работой (что, впрочем, само по себе не качественный, а количественный показатель), тем более мифологизируется и обретает самоценность хоть какая-либо причастность к «полю» (доминирование коммуникативной модели «Я-Я¹», когда субъективность опыта обретает семиотический статус «личности»). Иначе говоря, «базовая реальность» (réalité profonde, [2: 10-17]) научной риторики сводится к заимствованиям из «забытых» текстов: из прошлого и/или из ин(оязычн)ых контекстов, особенно, при (нередко механическом) перенесении мифологем и идеологем из одного языкового пространства в другое, как, например, в случаях клишированности и обессмысливания научных понятий (об этом см.: [22: 7, 8; 8]) и заимствований из языкового пространства самого «поля», благодаря чему авторы текстов дистанцируются от (воображаемой) аудитории («Я-ОН») и подчёркивают владение «полевым» материалом, авторитетность, особую субъективную ценность своих интерпретаций («Я-Я¹»).
Схема Р. Якобсона описывает ситуацию сочинительно-подчинительных взаимоотношений «адресантов» и «адресатов», когда «субъекты-адресанты» являются единственными или основными передатчиками информации за неимением других каналов передачи/восприятия информации, их девальвации и/или в случае перевода иных возможных интерпретаций, противоречащих «актуальным» представлениям, в разряд «отторгнутых» символов (см.: [19]). Таким образом, интерес представляет не сам по себе авторитарный аспект коммуникации, но исходные позиции «адресантов» - базовая реальность и различные уровни отчуждения [2: 10-17] «авторских» интерпретаций, само «авторство» которых, если исходить из предложенных Р. Якобсоном и Ю.М. Лотманом коммуникативных моделей, фактично в формальном плане («Я-ОН») и символично по сути («Я-Я¹»): «Рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора» [5: 390]; (ср. с вышеприведённым текстом Э.Лича, где исследователь дезактуализирует субъектно-объектные дефиниции и связанные с ними претензии на «авторство», переводя его в разряд отторгнутых/потенциальных символов: «мы выражаем», «мои аргументы», все – «студенты младших курсов», т.е. (лишь) возможные «читатели=авторы»; см. также: [1]).
Определение этничности, религиозности, инаковости и т.п. нематериальных «объектов» изучения происходит сегодня нередко за пределами собственно научного сообщества, в более модных дискурсах. Целесообразность исследований также не столь уж явственна, поскольку научный дискурс уже (ещё?) не имеет привычных идеологических установок, ранее позволявших авторам текстов подтверждать мифологемы и идеологемы своих языковых пространств или же ставить их под сомнение, чем обеспечивался смысл (вос)производства текстов т.н. пишущей культуры. В качестве наглядного примера можно привести материалы финляндских собирателей, в XIX – начале XX вв. побывавших в различных регионах России (см., напр., сборник полевых заметок финляндских собирателей фольклора [20; 21]; название брошюры этнографа С. Паулахарью красноречиво свидетельствует как о культурно-идеологических доминантах, так и о тенденциозно-фрагментарном характере фиксирования полевого материала в ряде финляндских исследований, причём, не только того периода: «Картинка оттуда, другая отсюда. Через (всю) Великую Финляндию»). Их тексты подчас насыщены протестантским пуританством и местечковой ксенофобией, однако записи собирателей интересны отнюдь не подобными пассажами, но непосредственностью восприятия и описания экспедиционной повседневности. Объяснение откровенности этих текстов в том, к какой аудитории эти тексты (были) обращены (см.: [18]). Речь идёт о соплеменниках, одни из которых ожидали и ожидают, нередко, именно крайних оценок от искателей фин(лянд)ских древностей и свидетельств финноугорского родства, мнение же других ещё лишь следовало (и следует – если говорить о современных текстах) сформировать согласно заданным установкам и отцензурированным в соответствии с ними наблюдениями и полевыми материалами. Некоторое представление о вышесказанном можно получить из перевода экспедиционных заметок У.Т. Сирелиуса «Из путешествия по северо-востоку России» [23], изначально опубликованным в 1907 г. в тогдашнем еженедельнике «Хельсингин саномат». У.Т. Сирелиус писал для финляндского обывателя, всё же избегая привычной для зарубежных текстов ангажированности в оценках российской действительности, чего нельзя сказать о финляндских текстах в целом, и, особенно, о современных СМИ. Символические аспекты иноязычных текстов остаются малоизвестными для русскоязычных читателей, так как исследователи, в основном, заняты цитированием «фактического» фольклорно-этнографического материала, воспринимая символическое на уровне «этнографических «консервов»», и поэтому ненаучные тексты - «забытые» тексты современности – мягко говоря, более адекватно отражают тенденции культурно-идеологических пространств, к которым принадлежат исследователи. Даже на основе (не)случайных публикаций из финляндских СМИ и их переводов, размещённых в сети интернет, можно заметить, что, если ранее (до конца 1990-х гг.) в них, в основном, выражались прямые или завуалированные надежды авторов на дальнейшее разрушение постсоветского пространства, то сегодня в подобных текстах доминирует чувство разочарования от несбывшихся ожиданий. Познавательная ценность научно-популярных сентенций не в фактическом материале, но в его интерпретационном, знаковом аспекте, когда пробел, возникающий между фактологическим минимумом, которым владеют интерпретаторы, и предлагаемыми ими обобщениями заполняется фольклорно-этнографической экзотикой. В метаязыковом смысле речь идёт о базовых аспектах взаимоотношений «центров» и «периферий», рефлексия чего усложняется уже тем, что на роль семиотических «центров» в финноугорском пространстве, наряду с Финляндией, сегодня претендуют те же Эстония и Венгрия.
Э. Лич говорит об «эмпирическом» и «рационалистическом» подходах как о дополняющих друг друга. «Рационалисты», как уточняет Э. Лич, не связаны с декартовскими конструкциями, и основываются на структуралистской теории, согласно которой примарное значение имеет языковая действительность. Даже если словесные заявления противоречат наблюдаемому поведению, «рационалисты» склонны видеть социальную реальность не в событиях действительности, а в представлениях о ней [12: 11]. Применительно к рассматриваемой теме представляется плодотворным анализ «забытых» текстов как области пересечения языковых пространств (см.: [14: 7, 14]) и как одновременно «примарные» и «секундарные» речевые жанры, если следовать классификации М.М. Бахтина [7].
Полевые записи относятся к «секундарным» речевым жанрам, будучи вторичными по отношению к языковой действительности «поля», но они же первичны по отношению к более структурированным научным текстам, для которых становятся базовой реальностью. В лингвистическом парадоксе структуралистов, расценивающих «рационалистическое» как символическое, звучит критика симуляций символического, критика общепринятой практики восприятия «этнографических «консервов»» в качестве непреложной базовой реальности, тогда как, на самом деле, имеет место воспроизводство «слов о словах» и «текстов о текстах» [6: 473] - культурно-идеологических клише, заимствующихся из семиотических «центров» и навязываемых этими «центрами» (доминирование коммуникативной модели «Я-ОН»), тогда как традиционному мировосприятию, к которому апеллируют любители научного туризма, чужды позитивистские субъектно-объектные дефиниции. (Красноречива автокоммуникативная фраза, которой К. Леви-Строс открывает «Печальные тропики»: «Я ненавижу путешествия и путешественников» [9].) Сами по себе идиомы «поле», «полевая работа», «экспедиционное путешествие» содержат скорее иносказательный и амбивалентный смысл (самоописательность текстов семиотических «центров» о «перифериях», см.: [13: 170, 171]; модель «Я-Я¹»), поскольку «поле» не имеет однозначных границ и находит продолжение как в научных, так и в других текстах семиотических «центров», конструирующих и воспроизводящих представления об изучаемых «перифериях». Этот аспект обычно остаётся вне рефлексии со стороны «субъектов» полевой деятельности и, таким образом, относится к континууму «отторгнутых» символов, к «периферии» смыслообразования, где каузальные взаимосвязи между текстами прошлого и современности имеют амбивалентный характер. Тексты формально выстраиваются в диахроническую иерархию, но в содержательном плане синхронно соприсутствуют в смысловых пространствах, подтверждая обоснованность общепринятых объяснительных моделей, частично противореча им или манифестируя альтернативные, отторгнутые, потенциальные интерпретации.
Примечания:
1. Аверинцев С.С. Авторство и авторитет // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Отв. ред. П.А. Гринцер. М.: Наследие, 1994.
2. Baudrillard J. Simulacres et simulations. P.: Éditions Galilée, 1981.
3. Байбурин А.К. Ритуал: Между биологическим и социальным. Фольклор и этнографическая действительность. СПб.: Наука, 1992
4. Барт Р. Две критики. Пер. С.Н. Зенкина // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989.
5. Барт Р. Смерть автора. Пер. С.Н. Зенкина // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989.
6. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 1986.
7. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
8. Бел М., Брайсен Н. «Семиотика и искусствознание», Вопросы искусствознания, IX (2/96), с. 521 -559.
9. Леви-Строс К. Печальные тропики. Пер. с фр. Г.А. Матвеевой. М.: Издательство «Культура», 1994.
10. Lévi-Strauss C. The Raw and the Cooked. L., 1970.
11. Летов Е. Русское поле эксперимента // Гражданская оборона. Концерт в Ленинграде, 1994 г. http://www.zvuki.ru/T/P/847/mp3/15?http
12. Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии. Пер. с англ. И.Ж. Кожановской. Послесловие В.Я. Чеснова «От коммуникации к культуре или Зачем сэру Эдмунду Личу нужно понять другого человека». М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН. (Этнографическая библиотека), 2001.
13. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: «Языки русской культуры», 1996.
14. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.
15. Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Сборник статей в честь Михаила Михайловича Бахтина (к 75-летию со дня рождения). Отв. ред. Ю.М. Лотман. Труды по знаковым системам, 6. Тарту: Тартуский госуниверситет, 1973.
16. Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи в трёх томах. Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: «Александра», 1992.
17. Лотман Ю.М. Семиосфера. С.-Петербург: «Искусство—СПБ», 2000.
18. Лотман Ю.М. Текст и структура аудитории // Труды по знаковым системам, 9. Тарту: Тартуский госуниверситет, 1977.
19. Минц З.Г. Несколько дополнительных замечаний к проблеме: «Символ в культуре» // Актуальные проблемы семиотики культуры. Труды по знаковым системам, 20. Тарту: Тартуский госуниверситет, 1987.
20. Runonkerääjimme matkakertomuksia 1830-luvulta 1880-luvulle. Toim. A.R. Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 109. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1904.
21. Paulaharju S. Kuva tuolta, toinen täältä. Kautta Suur-Suomen. Helsinki: Kirja, 1919.
22. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Языки русской культуры, 1998.
23. Сирелиус У.Т. Из путешествия по северо-востоку России. (Пер. с финск. А. Сурво) // Арт, Сыктывкар, 1997, №1, с.114-117; 1998, №1, с.118-125; 1998, №3, с.172-177; текст доступен в сети интернет по адресу: http://www.komi.com/pole
24. Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. /Пер. с англ. Д.А. Коропчевского. Смоленск: Русич, 2000. (Популярная историческая библиотека).
25. Чеснов В.Я. От коммуникации к культуре или Зачем сэру Эдмунду Личу нужно понять другого человека // Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии. Пер. с англ. И.Ж. Кожановской. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. (Этнографическая библиотека).
26. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
| фотоархив |