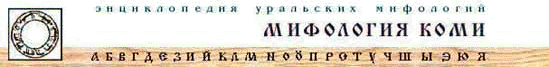
при поддержке компании
ТелеРосс-Коми
| карты |
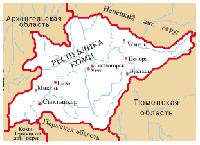 Республика Коми |
| регионы |
| публикации |
Публикации :: История изучения этнографии
Коми этнография в 1930-е годы
1920-е годы были, если образно говорить об этом времени, <золотым веком этнографии коми>.. В эти годы появилось значительное количество публикаций, так или иначе затрагивших обозначенную тематику. В этой области активно работают исследователи, которых условно можно разделить на две большие группы: это те, кто начал свою научную деятельность еще до революции, и на тех, кто стал специалистом уже в советское время.
К первым следует отнести В.П. Налимова. К 1930-ым годам он был уже <патриархом> в этой отрасли знания, к мнению которого прислушивались многие.[1] Его многочисленные работ до сих пор привлекают современных исследователей обилием скурпулезно зафиксированных данных по традиционной культуре народов коми. К большому сожалению, в это время прекратилась научная деятельность в области этнографии коми К.Ф. Жакова[2] и П.А. Сорокина[3]. К.Ф. Жаков, в силу разных причин оказавшийся в г. Риге, скончался в 1926 году. П.А. Сорокин, который начинал свою научную деятельность как этнограф, изучавший традиционную культуру народов коми, в1922 г. был выслан из СССР и чуть позже стал выдающимся социологом.
Во вторую группу входили лица, объединившиеся в Усть-Сысольске (Сыктывкаре) вокруг Общества изучения Коми края и Института Народного образования.[4] Из их числа в первую очередь следует упомянуть В.И. Лыткина, А.С. Сидорова и Г.А. Старцева. Василий Ильич Лыткин не занимался впрямую этнографией, так как был по образованию лингвистом.[5] но его занятия диалектология языка коми, входе которого были собраны значительные словарные и фольклорные материалы, до сих пор являются научной базой для исследователей традиционной культуры народов коми. В начале своей деятельности в 1920-е годы археологией и этнографией активно занимался Алексей Семенович Сидоров.[6] Он не только публиковал свои научные исследования, но и занимался экспедиционной работой, а также использовал для сбора материалов студентов Коми педтехникума, подготовив для этого специальную программу[7]. На основе этих данных он публикует книгу <Знахарство, колдовство и порча у народа коми>.[8] Его материалы использовались и позднее, в частности Ф.В. Плесовским.[9] Но позднее, в 1930-е годы он отходит от этих дисциплин, занимаясь в основном лингвистикой и литературоведением.
Значительный вклад в изучение традиционной культуры народов коми в это время внес Георгий Афанасьевич Старцев (1902-1943), лингвист, этнограф, историк, фольклорист, музейный работник. На мой взгляд, он был одной из наиболее противоречивых фигур из числа нарождавшейся собственно интеллигенции коми народа 1920-1930 гг. Получивший одним из немногих блестящее по тем временам образование, активно занимавшийся наукой, он все же не смог занять настоящего места в жизни; как истинный марксист, член партии он пытался внедрить в жизнь марксистскую методологию и закончил свою активную творческую жизнь как "враг народа". Личность Г.А. Старцева уже привлекала внимание исследователей. [10]
Он окончил церковно-приходскую школу, двухклассное училище в с. Гам. Был добровольцем Красной армии и принимал участие в боях с белыми. Некоторое время работал в Зырянском отделе Наркомата по делам национальностей в Москве. В сентябре 1921 г. по направлению Института народного образования направляется на учебу в Петроградский университет. С сентября 1921 г. по октябрь 1924 г. Г.А. Старцев - студент Общественно-Педагогического Отделения Факультета Общественных наук Петроградского (Ленинградского) Государственного Университета. Одновременно Г.А. Старцев занимается на Этнографическом отделении Географического факультета ЛГУ и состоял вольнослушателем Археологического института. В 1924 г. после окончания университетского курса Г.А. Старцев был оставлен при Университете, сначала по кафедре социологии, а позднее, с апреля 1925 года - при восточной подсекции Научно-исследовательского института сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока им. академика А. Н Веселовского при ЛГУ (ИЛЯЗВ) в качестве научного сотрудника. В марте 1926 г. он был зачислен в аспирантуру по факультету Языка и материальной культуры ЛГУ, а в январе 1927 переведен в аспирантуру ИЛЯЗВ ЛГУ, которую закончил в 1929 г. В 1927 г. он в течение 3-х месяцев стажируется в Хельсинки (на кафедре финно-угроведения Хельсинского университета) и в Германии (в Венгерском институте при Берлинском университете), в ходе которой слушает лекции и общается с крупнейшими финно-угроведами Финляндии и Германии. Тогда же он совершенствует свои знания в немецком языке. Кроме теоретических изысканий Г.А. Старцев неоднократно выезжал для полевых исследований в места проживания изучаемых народов: в Коми Автономную Область, Коми-Пермяцкий Округ Уральской области, Березовский уезд Тобольской губернии, Большеземельскую тундру Архангельской губ.
Будучи ещё аспирантом, Г.А. Старцев начинает преподавательскую работу, сначала на Этнографическом отделении Географического факультета ЛГУ (семинарий по этнографии финно-угров, курс по этнографии пермских финно-угров, а с 1925 г. - на Северном факультете Ленинградского Восточного института (остяцкий и вогульский языки). С 1928 г. начинается его педагогическая работа в Пединституте имени А.И. Герцена, сначала по совместительству, а с 1929 г. в качестве штатного доцента и зав. кафедрой (этнография и история народа коми), Г.А. Старцев оставался на этой должности до своего отъезда в Сыктывкар. Одновременно с сентября 1930 по декабрь 1932 он состоял доцентом, зав. кафедрой Урало-поволжских народов Ленинградского Историко-филологического института.
В 1931 году по просьбе Коми облисполкома в г. Сыктывкаре открывается Коми государственный пединститут и одновременно закрываются коми отделения в институтах Ленинграда и Вологды. Студентов и преподавателей переводят в Сыктывкар. Это коснулось и Г. А. Старцева. С 16 января 1932 г. он зав. учебной частью и зав. кафедрой истории пединститута. Свой переезд в Сыктывкар Г. А. Старцев воспринял очень болезненно, считал это "ссылкой" и "несправедливостью к себе как ученому", так как не считал преподавательскую работу основной, стремясь больше к исследовательской. Старцев работал вяло, без инициативы, пропускал занятия, возникли проблемы с руководством. При первой же возможности уезжал в Ленинград. 1935 г. он был уволен из Пединститута "за невозможностью нагрузить его по специальности". Хотя он все же подготовил несколько курсов по этнографии и фольклору коми, используя старые ленинградские разработки. В эти же годы он написал большую работу "Зыряне" - первый в советское время монографический очерк, который остался неопубликованным. На некоторое время его главной работой в Сыктывкаре стал Областной краеведческий музей, директором которого по совместительству он был назначен еще раньше В августе 1936 г. он был освобожден от обязанностей директора музея, ибо "был исключен из рядов партии как двурушник, троцкист и буржуазный националист."[11]
Г.А. Старцев автор более 40 работ по истории, этнографии и лингвистике ненцев, хантов, манси и коми.[12] Печататься он начал с 1923 года, когда опубликовал методическое пособие для работы школы 1 ступени на коми языке. В 1927 г. к 10-летию Октябрьской революции совместно с Н.Н. Поппе публикует книгу "Финно-угорские народы", остававшимся основным пособием по традиционной культуре этих народов до конца 1950-х годов. Из других крупных его работ следует отметить книги "Остяки" и "Самоеды". Как ученый Г.А. Старцев не был аналитиком. Все его работы в большей степени носили, с одной стороны, характер добросовестных сводок доступных ему литературных данных, а с другой стороны, в них достаточно много личных полевых материалов. Например, Б. Соколов, крупнейший советский фольклорист 1920-1930-х годов, очень высоко оценил статью Г.А. Старцева "Свадебные причитания зырян" "как пример исключительно научной ценности. Весь быт, психика, эстетика зырянского народа нашли яркое выражение в этих причитаниях. Благодаря стремящемуся к точному переводу перед нами оживают глубоко своеобразные приемы зырянской поэтики." Как отмечал его научный руководитель проф. Н.Н. Поппе в них " не видно личных мнений автора", что Н.Н. Поппе объяснял "прежде всего излишней скромностью автора: там, где он мог бы быть категоричным и предлагать свои гипотезы". С точки зрения современной науки несколько наивными являются его попытки объяснять некоторые проблемы с точки зрения "яфетической теории" и других модных в то время гипотез. Тем не менее, его вклад в науку достаточно значителен, так как ему удалось зафиксировать значительный этнографический материал. Большая часть их погибла при аресте, но кое-что сохранилось в архивах Сыктывкара и Санкт-Петербурга.
18 августа 1937 гг. он был арестован в Ленинграде по делу "Контрреволюционной организации блока правых, троцкистов и буржуазных националистов" во главе с первым секретарем Коми обкома ВКП (б) А. А. Семичевым. Ему было предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности и в том, что писал и печатал "буржуазно-националистические статьи, будучи директором Коми областного музея, укрывал к/р литературу, исторический отдел музея целиком посвятил популяризации врагов народа - буржуазных националистов Г.С. Лыткина, К.Ф. Жакова, П.А. Сорокина и т.д. С 1929 года агент германской и финской разведок." 24 августа 1939 г. осужден военным трибуналом Войск НКВД Уральского округа на закрытом заседании без участия обвинения к 10 годам заключения. Но себя виновным не признал, от показаний отказался и обратился в Верховный суд с апелляцией. Его дело было вновь рассмотрено 10.09.1940 Особым совещанием НКВД СССР, который определил ему 5 лет ссылки. Ссылку Г.А. Старцев отбывал в Тасеевском р-не Красноярского края. 24. 10. 1942 года был мобилизован в Красную армию.[13] В это время истек срок его ссылки, который считался со дня его ареста 18 августа 1937 г. Погиб в 1943 г. в боях в р-не Сталинграда.
Не смотря на значительный полевой и литературный материал по традиционной культуре народов коми, он не оформился в форме фундаментального труда, который обобщил его на теоретическом и методическом уровне того времени. Подобную попытку предпринял Г.А. Старцев, но его рукопись <Зыряне> осталась незавершенной из-за ареста.[14] И как это не странно, в общих чертах характеристику традиционной культуры народов коми в 1930-е годы дали историки Н.И. Ульянов и В.М. Подоров.
В 1932 г. в Ленинграде в Партиздате вышли "Очерки истории народа Коми" Н. И. Ульянова[15]. Ульянов Николай Иванович (1904-1985) родился в Петербурге в рабочей семье. С 1922 по 1927 год учился на факультете общественных наук Петроградского - Ленинградского университета.[16] После этого была аспирантура Института истории РАНИОН в Москве. Именно здесь определяются его научные интересы - история Русского Севера и появляются первые публикации.[17] Собственно это способствовало тому, что он был направлен после завершения аспирантуры профессором Северного краевого Комвуза имени В.М. Молотова в Архангельск. Здесь он активно работает и публикует две книги, посвященные Коми краю.[18] В 1933 г. Ульянов возвращается в Ленинград, где работает в Историко-Археографической комиссии, позднее преобразованной в Ленинградское отделение Института истории АН СССР, а так же профессором исторического факультета ЛГУ. Но в 1936 г. был арестован и осужден на 5 лет лагерей, причина ареста не ясна, так как его не привлекали ни по одному из известных дел, в ходе которых были осуждены ученые-гуманитарии. Срок отбывал сначала на Соловках, потом в Норильске. После освобождения перед войной в 1941 г. был направлен в Саратов, где был мобилизован на окопные работы. Оказался в плену, бежал, добрался под Ленинград, где жила его жена. Вместе с ней был угнан в Германию. После войны живет в Касабланке (Марокко), потом переезжает в США в 1955 г., где был профессором Йельского университета (Нью-Хавен, Коннектикут).[19]
Перу Н.И. Ульянова принадлежит первое полноценное описание истории народа коми, начиная от глубокой древности до современности, т.е. конца 20 - начала 30 -х г. XX - го века. В этом смысле его прямым предшественником был только академик А.М. Шегрен, но в его работе были обобщены материалы лишь до 1830 г. включительно. Эта книга делает вклад Н.И. Ульянова в историографию коми достаточно значительным, хотя он сам критически оценивал свой труд, называя его "попыткой ответить на ряд вопросов, возникших в связи с переживаемым периодом и приобретших значительную политическую остроту". Но время, в котором жил и трудился автор, наложило на его работу свой отпечаток.
В начале своей работы Н. И. Ульянов критикует русских исследователей, которые "не знали истории зырян в собственном смысле этого слова", ибо "представителям аристократической науки сама мысль об истории зырян казалась нелепой и смешной". Приводя высказывание проф. С. В. Ешевского о том, "Финское или чудское племя мало чем заявило свое право на имя народа исторического.", Н.И. Ульянов в противовес ему справедливо заявляет, что "коми народ завоевал право на внимание к себе и к своему прошлому". С другой стороны, он исходил из тезиса, что изучение истории вызвано не простым любопытством; история есть особый метод познания настоящего при помощи фактов прошлого. Причем основным методом познания настоящего он считал марксистский. Поэтому в его работе во многих местах марксистская историография и яфетическое языкознание противопоставляются т. н. "шовинистической гельсингфорской школе финнологии", как абсолютно правильные и научные. Подобная критика финляндских ученых вызвана была широко распространенным в 1920-е гг. в среде нарождающейся национальной научной интеллигенции финно-угорских народностей СССР мысли видеть в Финляндии и в финской науке пример рационального и правильного решения национального вопроса. И если книга Н. И. Ульянова еще носит характер некой научной дискуссии, то через некоторое время органами ОГПУ были сфабрикованы в финно-угорских автономиях СССР несколько дел, в ходе которых были фактически ликвидированы многие выдающиеся представители науки и культуры народов коми, удмуртов, марийцев, карел, мордвы.[20] И именно эта политизированность книги Н. И. Ульянова и вызывает определенную критику современных историков. Понятно, что в какой-то степени он выполнял постановленную вышестоящими инстанциями задачу. Дополнительный стимул для подобной трактовки истории народа коми в конце XIX - начале XX вв. ему давала развернувшаяся борьба между Архангельском и Усть-Сысольском (Сыктывкаром) в вопросах районирования Европейского Севера. Она завершилась победой Архангельска и включением Коми Автономной области в 1929 г. в состав Северного края с центром в Архангельске.[21] Сопротивление сыктывкарских властей и представителей местной интеллигенции этому нажиму прямо называются им "местным национализмом" и с точки зрения "буржуазного национализма" критикуется деятельность крупнейших коми просветителей конца XIX - начала ХХ вв. Г. С. Лыткина, К. Ф. Жакова, П. А. Сорокина и других.[22] Именно эти высказывания позволили авторам сборника "Научный поиск продолжается" назвать Н. И. Ульянова человеком, в работе которого получила обоснование и утвердилась на десятилетия одномерная персонификация т. н. идеологов коми буржуазии ( Г. С. Лыткина, К. Ф. Жакова) и их последователей в Коми в 1920-е годы.[23] Если быть точнее, борьба с "национал-шовинизмом" началась в самом Сыктывкаре и Коми области еще в начале 1930 года, когда на пленуме Коми обкома ВКП(б) в марте месяце "национал-шовинизм" был провозглашен "главной политической опасностью для областной парторганизации". В свете этих директив в течение апреля - мая 1930 г. в серии своих статей в различных периодических изданиях Коми области заведующий Коми Госиздатом и редактор областной крестьянской газеты "Коми деревня" И. И. Оботуров первым заклеймил Г. С. Лыткина и К. Ф. Жакова как "отцов коми национал-шовинизма", а заодно и других коми краеведов, ученых и писателей.[24] Подобные формулировки прозвучали из уст Г.А. Старцева еще в 1927 г.[25]
После ареста в 1936 г. имя Н.И. Ульянова исчезает из числа исследователей фактически до начала 1990-х гг. и никто не упоминает о его работах. Например, авторы "Очерков по истории Коми АССР", изданной в 1955 г., пишут, что "выпускаемый в свет 1 том "Очерков по истории Коми АССР" представляет собой первую попытку изложения истории народа коми с древнейших времен до февральской революции включительно", то есть полностью игнорируют ряд своих предшественников (как Н. И. Ульянова, так и В. М. Подорова), хотя и используют многие материалы, которые впервые они опубликовали.[26] Фактически первые четыре главы книги посвящены этнической истории народа коми, здесь мы встречаем разбор сведений о Биармии, достаточно профессиональный историографический обзор, рассматривается проблема происхождения народа, общественный и семейный быт в прошлом и настоящем, историю христианизации и сведения об языческой религии и т.д.
Годом позже в Сыктывкаре были изданы <Очерки по истории коми (зырян и пермяков)> Василия Максимовича Подорова в двух томах.[27] Они обозначены как издание Коми педагогического института и имеют № 3 и 4.
С сегодняшней точки зрения сочинение В.М. Подорова можно охарактеризовать как суперидеологзированное. В введении автор прямо заявляет, <что его книга представляет собой рассмотрение истории Коми с точки зрения марксистско-ленинской идеологии>[28] и с этой точки зрения он и дает обзор работ по истории Коми. Этнографические материалы используются им для характеристики народа коми. В частности, исходя из <теории пережитков>, он рассматривает эти данные для доказательства существования у коми в прошлом первобытно-коммунистического общества, которая была начальным и обязательным этапом развития человеческого общества с точки зрения марксизма. И если отвлечься от этой идеологической направленности, то его работа богата этнографическими материалами, которые извлекаются В.М. Подоровым из различных публикаций. Но он не просто приводит эти сведения, пытается дать оценку. Так, например, он считает позицию А.С. Сидорова, высказанную им в книге <Знахарство, колдовство и порча у коми> явно антимарксистской.[29] Хотя на самом деле речь идет о времени появления религии и соотношения этого процесса с определенной стадией развития человеческого общества. Не вдавляясь в подробности сути критики А.С. Сидорова, сегодня мы можем сказать, что это имеет чисто историографический аспект. Не смотря на это, в книге разбросана масса конкретного материала, которая характеризует хозяйство и социальную структуру коми этноса на протяжении достаточно большого времени исторического развития. И поэтому его и сегодня можно рекомендовать как один из достаточно фундированных источников.
Характеристики многих деятелей культуры коми написаны В.М. Подоровым как политические портреты. Он достаточно много места уделяет анализу творчества К.Ф. Жакова, который характеризуется им как идеолог коми буржуазии.[30] Поводом для критики послужила <его широкая известность в Коми, особенно среди интеллигенции националистического толка, которая рассматривает его как национального героя, который в условиях царизма, исключительно своими собственными силами достиг вершин научной мысли>. По мнению В.М. Подорова именно на работах К.Ф. Жакова высказывались идеи отделения Коми области от СССР и присоединения её к Финляндии. Г.С. Лыткин определяется им как идеолог русского великодержавного национализма. [31]. Его он считал главным проводником подобной политики царского правительства. Именно с этой точки зрения рассматривается вся научная и особенно переводческая деятельность Г.С. Лыткина. Не менее лестные характеристики получают и другие деятели коми культурно-просветительного движения, такие, как Д.Я. Попов, А.А. Чеусов. В.М. Подоров не принимает дискуссий об Коми автономии, считая все это буржуазно-националистическим движением. Все эти критические разделы его книги можно отнести, как и в книге Н.И. Ульянова, к дискуссиям по вопросу о создании Северной области с центром в Архангельске, принятой в рамках проведения административной реформы в СССР. Местное руководство Коми автономной области не только выступало против этого, но и предлагало свой вариант - присоединения к Коми области Коми-пермяцкого округа и части Архангельской области, населенной ненцами и коми. Именно эти взгляды местной администрации руководством страны были признаны националистическими, а книги Н.И. Ульянова и В.М. Подорова как бы подводили научную базу для борьбы с этими идеями.
К сожалению, биография В.М. Подорова мало изучена. Его первая публикация, появившаяся в 19128 г., касалась вопроса о чуди и его отношения к народу коми.[32] Была еще одна публикация.[33] По-видимому, он преподавал в пединстиуте, ибо его гриф стоит на книге. После Сыктывкара он успел проработать в Институте истории АН СССР, Институте национальностей, в казахстанском филиале АН СССР[34]. Хотя сведений о его публикациях обнаружить не удалось. [35] В 1944 г. Подоров В.М. вернулся из армии в Коми НИИ и стал сотрудником отдела истории, но в августе 1945 г. уволился и уехал для работы в Москву.
К середине 1930-х годов этнографические исследования народов коми постепенно затухают. Этому способствовало несколько моментов. Во-первых, в Сыктывкаре, как и по всей стране, сводится на нет краеведческое движение. Этому способствовала массовая советизация краеведения по всей стране. Это широкое начинание, направленное прежде всего на исследование местного края, постепенно переводится под административный контроль властей, которые начинают централизованно определять тематику исследований, прежде всего производственной тематики, не считаясь с местными условиями. Кроме того, начинается идеологическое давление на это движение под углом марксизма. Эти процессы начинаются ещё с конца 1920-х годов. Начинается активная критики и проработка руководителей движения в печати. Эти события не обошли и Сыктывкар.[36] В результате в мае 1931 г. было распущено Общество изучения Коми края. Позднее начинается полоса арестов, в ходе которых были арестованы ряд лиц, так или иначе занимавшихся историко-этнографическими исследованиями, такие, как В.И. Лыткин, А.С. Сидоров, Г.А. Старцев. И к концу 1930-х годов в республике фактически не осталось кадров, специалистов, которые могли бы разрабатывать эту тематику. Потом началась Великая Отечественная война. Подобные снова исследования смогли возобновиться уже только после войны. Этому во многом способствовало создание в 1944 г. Коми базы АН СССР, которая в 1949 году была преобразована в Коми филиал АН СССР, где был создан сектор языка, письменности, литературы и истории.[37]
А фактически цельное монографическое описание народов коми было опубликовано через много лет только в 1958 г. В.Н. Белицер.[38]
1. [1] О нем см.: Несанелис Д., Семенов В. Этнограф Василий Налимов // Они любили край родной. Сыктывкар. 1993; Налимов В.В. Канатоходец. М. 1994; Терюков А.И. Ученик Д.Н Анучина В.П. Налимов // Интеграция археологических и этнографических исследований. Ч. II. Омск-Санкт-Петербург. 1998. С.96-98 он же. Из истории изучения обрядов жизненного цикла народов коми. В.П. Налимов. // Ж. Арт (Лад).Сыктывкар. № 3. 1999. С. 130-135; Семенов В. пути <инородца в России царской и советской // Арт. Сыктывкар. 2000. № 1. С. 117-121.
[2] К.Ф. Жаков внес значительный вклад в изучение традиционной культуры народов коми. В последнее время его творчеству посвящено ряд публикаций. См., например: Туркин А.И. Каллистрат Фалалеевич Жаков // Каллистрат Жаков Под шум северного ветра. Сыктывкар. 1990; Демин В.Н., Микушев А.К., Лисовская Г.К., Кузнецова Т.Л. Творчество К.Ф. Жакова // Серия препринтов <Научные доклады> Коми научного центра Уральского отделения РАН. Сыктывкар. 1991. вып. 269; Микушев А.К. Коми <Калевала>. Об одном неизвестном финно-угорском литературном эпосе и его создателе Каллистрате Жакове // К. Жаков. Биармия.
[3] Этнографические работы П.А. Сорокина были переизданы в 1999 году в сборнике < П. Сорокин. Этнографические этюды>. О жизни и деятельности П.А. Сорокина см.: Голосенко И.А. Питирим Сорокин: Судьба и труды. Сыктывкар. 1991; Несанелис Д.А., Семенов В.А. Традиционная этнография коми в трудах П.А. Сорокина //Рубеж. 1991. Вып. 1. С.47-56.
[4] О деятельности Общества изучения Коми края см.: Они любили край родной: С. 14-71; Малкова Т.А. Издания Общества изучения Коми края как источник по истории научных исследований в Коми области в 20-е годы XX века. // Крестьянство Европейского Севера России в XVII -XX веках: проблемы изучения. (Труды ИЯЛИ. Вып. 54). Сыктывкар. 1993. С. 71-77; Научный поиск продолжается. Институту языка, литературы и истории Коми научного центра УРО РАН 25 лет. Сыктывкар. 1995. С.6-21; Они любили край родной
[5] Жеребцов И.Л., Г.Н. Некрасова, В.Н. Демин. В.И. Лыткин: Жизнь и творчество. Сыктывкар. 1997.
[6] А.С. Сидоров (к 80-летию ученого) // Этнография и фольклор коми. Сыктывкар. 1972. С. 5-9; IV симпозиум по пермской филологии, посвященный 100-летию со дня рождения А.С. Сидорова. Сыктывкар. 1992; Терюков А.И. А.С. Сидоров и Академия наук // IV симпозиум по пермской филологии, посвященный 100-летию со дня рождения А.С. Сидорова. Сыктывкар. 1992. С.85-86; И.Л. Жеребцов, Е.А. Цыпанов. Алексей Семенович Сидоров. Серия <Люди науки>. Сыктывкар. 1995. Вып. 9.
[7] Сидоров А.С. и др. Программа по историко-этнографическому изучению коми народа. Усть-Сысольск. 1924.
[8] Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у народа коми. Л. 1928.
[9] Плесовский Ф.В. Свадьба народа коми. Обряды и причитания. Сыктывкар. 1968.
[10] Рогачев М.Б. Забытое имя. //Они любили край родной... С. 243-254.; Полещиков В.М. За семью печатями. Сыктывкар. 1995; он же. Зову к покаянию. Сыктывкар. 1996; Терюков А.И. Г.А. Старцев в Ленинграде. // Ж. Арт (Лад). Сыктывкар. № 2.,1999. С. 136-142.
[11] Протокол № 163-164 от 20-21 августа 1936 г.// Протоколы заседания Бюро ОК ВКПб. Коми республиканский государственный архив общественно-политических движений и формирований. Ф. 1. Оп.1. дело. 291.
[12] Список опубликованных работ Г.А. Старцева см.: Терюков А.И. Г.А. Старцев в Ленинграде. // Ж. Арт (Лад). Сыктывкар. № 2.,1999. С. 136-142.
[13] Справка Главного информационного центра МВД РФ № 34/3/3 -1256 от 04.07.97. Хранится у автора.
[14] Старцев Г.А. Зыряне. Этнографический очерк // ЦГА РК. Ф. 710. Оп. 1. Ед. хр. 4
[15] Ульянов Н. И. Очерки истории народа Коми. М.-Л., 1932. 181 стр. На титульном листе название книги обозначено несколько иначе, чем на обложке - "Очерки истории народа Коми-зырян".
[16] Терюков А.И. Н.И. Ульянов и его <Очерки истории народа Коми>. //Деятели русской науки XIX - XX веков. Вып.2. СПб.2000. С.173-184.
[17] Например, Ульянов Н. И. Исторические материалы о Кольском полуострове, хранящиеся в Московском древлехранилище. // Сб. материалов по истории Кольского полуострова в XVI -XVII вв. Л. 1930. С. 20 - 161. (Материалы Комиссии экспедиционных исследований АН СССР. Вып. 28.).
[18] Кроме уже названных <Очерков :> еще одну - <Октябрьская Революция и гражданская война в Коми области>. Архангельск. 1932.
[19] Муравьев П. Жизнь - это творчество. // Отклики. Сборник статьей памяти Николая Ивановича Ульянова. (1904-1985). Под. ред. Всеволода Сечкарева. Нью-Хэвен. 1986. С. 39-55. Данная статья является основным источником для описания жизни Н. И. Ульянова в 1941-1985 гг.. Полный список публикаций Н. И. Ульянова, подготовленный Н. Н. Ульяновой см.: Отклики. Сборник статей ... С.65-70.
[20] Куликов К. И. Дело "СОФИН". Ижевск. 1997; Терюков А.И. Дело <СОФИН> и советско-финляндские отношения в конце 1920-х - в начале 193-х годов. //Россия и Финляндия в XX веке. К 80-летию независимости Финляндской Республики. СПб. 1997. С.223-231.
[21] Кузивнова О. Ю., Попов А. А., Сметанин А. Ф. В начале пути. (Очерки истории становления и развития Коми автономии). Сыктывкар. 1966. С.75 - 90.
[22] Ульянов Н. И. Очерки истории... С.115 - 118, 164 -178.
[23] Научный поиск продолжается ... С. 23; Подобная оценка Н.И. Ульянову была дана и в другой работе - "Они любили край родной: " С.99 - 100, 126, 202 и др.
[24] Они любили край родной... С.89 - 90, 90 - 91, 152 - 153. И. И. Оботуров (1903 - 1938) прошел сложный жизненный путь, занимал различные партийные и государственные должности, но кончил свою жизнь как "враг народа". О нем см.: Полещиков В. М. За семью печатями. Из архива КГБ. Сыктывкар.1995. С.190 - 196.
[25] Старцев Г. А. Отчет о результатах командировки в 1927 г. в Коми область по установлению связей с местными организациями для производства исследовательских работ по этнологии с приложением первого пятилетнего плана НИИР в Коми области на 1928/29 - 1932/33. // ПФА РАН. ф. 135. Оп.2. Ед. Хр. 261. В несколько измененном виде опубликована как статья " Культурное строительство и научно-исследовательская работа в Коми области. ( К 10-летнему юбилею Области Коми.)". // Советская Этнография. 1932. № 2.
[26] Очерки по истории Коми АССР. Сыктывкар. Т. 1. 1955; Т. 2. 1962.
[27] Подоров В.М. Очерки по истории коми (зырян и пермяков). Т. 1-2. Сыктывкар. 1933.
[28] Подоров В.М. Очерки : Т. 1. С.16.
[29] Подоров В.М. Очерки : Т. 1. С. 53.
[30] Подоров В.М. Очерки : Т. 2. С. 54-68.
[31] Подоров В.М. Очерки : Т. 2. С. 69-76.
[32] Подоров В.М Что такое Чудь и его отношение к коми народу // Коми Му. 1928. № 9-10. С.70-81.
[33] Подоров В.М. Наказы крестьян коми по материалам Екатерининской законодательной комиссии 1767 года // Записки Общества изучения Коми края. Усть-Сысольск. 1929. № 2. С. 35-47.
[34] Авторитетный <История СССР. Указатель советской литературы. 1917-1952 гг.>. Т. 1-2. М. 1956-1958 не дает ссылок на его работы, кроме указанных выше.
[35] Научный поиск продолжается. Институту языка, литературы и истории Коми научного центра УРО РАН 25 лет. Сыктывкар. 1995. С. 57-58.
[36] Подробнее об этом см.: Они любили: С. 85-104.
[37] В научном поиске: С. 29-35.
[38] В.Н. Белицер. Очерки по этнографии народов коми. М. 1958.
| фотоархив |